Мистическое путешествие по лабиринтам сердца
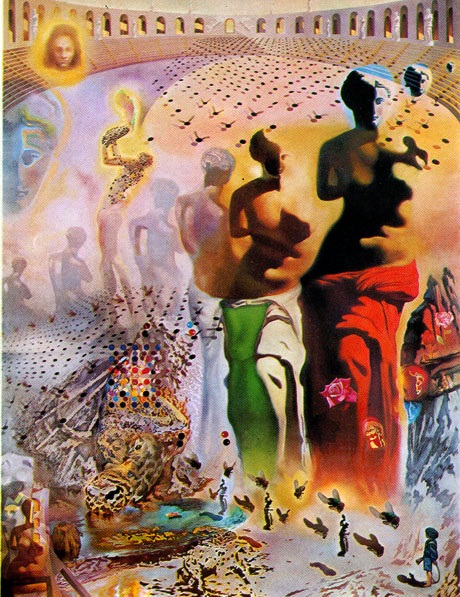
Мистическое путешествие по лабиринтам сердца
Во сне, наяву, по волне моей памяти я поплыву.
(«По волне моей памяти» Н. Гильен, пер. И. Тыняновой)
Проснувшись утром, я протяжно застонал, как раненый пёс. Бегающие глаза бывшего друга, пустые оправдания, а самое противное – чувство, что самый близкий человек предал тебя, и предавал на протяжении полугода не раз и не два, каждый день встречаясь с тобой на работе, и каждый день лгал. И ради чего? Ради денег, которых мне никогда не было жаль ни для него, ни для кого вообще.
Что дальше? Как жить сегодня и завтра, ведь надо идти на работу… И в тот миг я понял одно – мне уже никогда не переступить порог заводской проходной. Я взял в руки коробочку сотового телефона, набрал SMS: «Я увольняюсь. Меня не ищите, нужно побыть одному. Простите!» – и отправил сообщение начальнику. Спустил мобильник в унитаз, принял душ и собрал в дорогу рюкзак. Заскочил в сбербанк, заплатил за квартиру примерно на год вперед. Купил провиант на первое время и вернулся домой.
Невольно задержался у фотографии Маши, покинувшей меня, улетевшей далеко и надолго – так улетают ангелы, святые и любимые.
– Ты собрался в путешествие? – раздался из гостиной голосок Маши, пока я переобувался.
– Да, Маша, мне нужно побыть одному. Я задыхаюсь в мире жадности и обмана. Это не для меня. Лучше умереть под забором в нищете, чем видеть бегающие глаза друга, который предал тебя ради каких-то денег.
Я, наконец, поднял глаза на Машу и невольно залюбовался: она сидела в кресле в белых свободных белых одеждах наподобие туники, на неё из окна упал луч солнечного света – и вся она сияла неземной красотой. От её помолодевшего лица, такого родного и красивого, от её глаз и рук – исходило то самое теплое сияние любви, которое я заметил в первый день нашего знакомства. То самое теплое сияние, которое она пронесла сквозь многие годы нашей дружбы, нашей высокой любви, не растеряв его в повседневной суете, не рассеяв «на мрачных стезях мира сего». На душе стало покойно и чуть грустно.
– Ты, пожалуйста, не удивляйся, Арсюша, – сказала она, – теперь у меня появилась возможность прилетать к тебе в любое время, когда я тебе буду нужна. Я только на минутку… Только навестить тебя и успокоить, а еще навестить папу, сестричку – и сразу обратно.
– Но ведь это такой долгий перелет, столько часов в самолете! Ты не устала?
– Вовсе нет, – улыбнулась она своей лучезарной улыбкой, которая меня всегда будто обливала потоком света.
– Слушай, Маша, ты так прекрасно выглядишь! Видимо, этот переезд в далекие края на самом деле пошел тебе на пользу.
– Да, как любое дело, которое мы выполняем не по самоволию, а по послушанию.
Несколько минут прошли в молчании. Но это было не отсутствием мыслей, а нежелание проговаривать слова, цена которых именно в их сокрытии. То были слова, которые мы не раз говорили друг другу, и сейчас они пожелали остаться внутри. То были вечные, как всё божественное, признания в любви и верности навсегда. То были слова нежности, от которой тают льды одиночества и наступает весна.
Наконец, Маша вспорхнула, как белая голубка, улыбнулась на прощанье, взмахнула рукой, как светлый ангел крылом, и ушла, улетела, растаяла... В комнате остались солнечные блики и сладкий аромат, в душе – покой и тихое счастье внезапной весны.
Перед тем, как отправиться в путь-дорогу, посидел на любимой скамейке, во всех подробностях рассмотрел наш двор, запоминая каждую мелочь. Потом зашел в храм и встал в очередь исповедников. Отец Сергий принимал покаяние тоненькой девчушки, рассеянно поправляя пальцами складки на платочке, кивая большой седой головой. Сказав несколько напутственных слов, он прочитал разрешительную молитву и отпустил девушку, смущенно промокавшую порозовевшее личико.
– Арсений, подойди, – сказал, остановив мужчину, шагнувшего к нему, первого по очереди.
– Благословите, отец Сергий, в путь шествующего, – произнес я не без волнения.
– Куда собрался и зачем?
– Вот понял, что не могу больше работать в бизнесе. Нужно походить по дорогам странствий и в молитве поискать свой путь в этой жизни.
– Понятно, – кивнул он. – Что ж, Ангела хранителя тебе в дорогу. Бог благословит. – Осенил меня широким крестным знамением и сказал: – Вернешься, приходи. Расскажешь, что нашел.
Ну вот и всё. Отсюда, от ворот храма, начался мой путь в неизвестность.
Вообще-то ощущения нахлынули непростые, прямо скажем, головокружительные! Свобода, она как молодое вино, приносит сладость, легкое опьянение и тонкую тревогу. Наконец, прошагав с километр асфальта, я нащупал в кармане куртки четки и заставил себя сосредоточиться на Иисусовой молитве. И сразу всё изменилось…
Лишь самым краешком сознания я замечал изменения окружающего ландшафта, смену городских строений на широкие загородные поля, мимо проплывали автобусы, дома и облака, вдалеке протекали реки и леса, а внутри затопляла огромное пространство моей персональной вселенной живая пульсация самой простой и самой таинственной молитвы, в которой заключалось всё Евангелие и Предание святых отцов.
В последний раз Иисусова молитва так мощно вращалась во мне, когда я умолял Господа привести в храм Машу. Но, увы, с течением времен неминуемо навалилась усталость, теплохладность сковала душу осенним ознобом – и молитва превратилась в дежурную скороговорку без былого огня и пронизывающего света. …А тут вернулось то, почти детское чувство близости возлюбленного Иисуса, Который всегда стоит у сердца каждого человека и стучит: отвори, если хочешь. Видимо, я захотел – отворил потаённую дверь души и впустил Спасителя и пал Ему в ноги: помилуй, Господи, гибну ведь, бездна разверзлась под ногами, держусь за тонкую веревочку молитвенного плетения и из последних сил молю: спаси от бездны преисподней, воскреси из мертвых, верни мне, падшему созданию своему, человеческое достоинство сына Твоего!
Ночь застала меня в крохотной деревеньке, где на единственной скамейке сидели в рядок две старухи и две женщины помоложе. Я остановился перед ними, выбрал старушку поскромней и обратился к ней, не обращая внимания на приставания молодух.
– Бабушка, вы не можете пустить меня переночевать?
– Да ночуй, сынок, жалко что ли, – только и сказала она, смущенно потупив очи.
Тимофеевна показала комнатку со старинной кроватью, периной и горкой подушек, да и посадила за стол щи хлебать. Стоило мне задержать взгляд на семейных фотографиях, она принялась рассказывать историю своей семьи. Там были все круги ада, которые прошла наша страна: раскулачивание, голод, ссылка, война, возвращение на пепелище, жизнь в землянке, каторжный труд в колхозе, бегство детей в город, смерть мужа, одиночество, старость, болезни, ожидание «смертыньки», как избавления от мук земной жизни. Мне и раньше доводилось выслушивать подобные истории, полные трагизма, только эта тихая женщина, почти не поднимавшая глаз на меня, рассказывала о страшных событиях без обычного надрыва, пожизненной обиды и слёз. Тимофеевна говорила тихо, напевно, будто народную былину рассказывала. В этом неспешном повествовании прозвучали такие слова: «Богу было угодно», «так Господь повелел», «Бог дал, Бог взял»…
Я ловил себя на желании броситься ей в ноги, поцеловать её жилистую руку, только останавливал себя, зная, что доведу старушку до крайнего смущения. Эта русская женщина не нуждается ни в благодарности, ни в сочувствии, хотя бы потому, что ничего особенного в своём подвиге она не видела, а просто жила и переживала всё, что Господь послал, уготавливая венцы в Царствии Небесном избраннице Своей.
Не скрою, с огромным сожалением покидал я на следующее утро эту старенькую избушку с дивной женщиной, живой святой – только Ангел мой беззвучно повелел встать, попрощаться и идти, идти дальше. Тимофеевна от денег отказалась, и пока я незаметно сунул несколько купюр под кружевную салфетку на комоде, почти незаметно сунула в мой рюкзак пакет с малосольными огурцами, вареными яйцами, зеленым луком, салом и краюшкой ржаного хлеба – да и отвесила на прощанье поклон, коснувшись пальцами земли, так и не подняв на меня глаз.
В тот день на бодрую Иисусову молитву стали наплывать прозрачные воспоминания из моей жизни, которая раньше чаще всего представлялась мне цепочкой несчастий и чередой глупости. Раньше, но не в этот день. Сейчас, видимо после урока смирения, преподанного Тимофеевной, события прошлого выглядели шагами младенца, который шлепает гнущимися ножками, виляя из стороны в сторону, только мама держит его за ручонки, не давая упасть, не позволяя сойти с дорожки в канаву или свалиться в лужу. Да, этим младенцем, делающим первые шаги, был я и, пожалуй, мои близкие, которые «делали мою жизнь» – это мы неверными ногами, зигзагами плелись по жизни, ведомые Ангелом. Куда? Да, в то самое Небесное Отечество, которое приготовил Бог, любящим Его, детям Своим, чтобы поделиться с ними блаженной любовью.
На пульсирующую ткань молитвы прозрачным солнечным зайчиком наслоилось воспоминание того судьбоносного дня, когда Бог свёл меня с Машей. Ведь там было много детей и взрослых, много красивых девочек с цветами в белых бантах, но лишь на Машу упал тот необычный указующий луч света, от которого всё её существо засияло, а мне в сердце что-то ударило и грудь затопило теплом… Потом нас развели по классам. После ремонта школа вся еще пахла скипидаром, а краска на партах приставала к брюкам и рукавам пиджаков.
В классе от солнца и цветов стало душно, и даже распахнутое окно рядом с учительницей не приносило свежести, а только добавляло жаркого воздуха, напитанного испарениями асфальта, скипидара и печального запаха умирающих цветов. В первый учебный день у нас состоялся всего лишь один урок, но эти сорок пять минут в духоте и без Маши показались мне долгим мучением. Перед нашими глазами ходила пожилая учительница, взволнованно размахивая руками, что-то рисуя на доске, поправляя шелестящий целлофаном ворох цветов на своем столе – а передо мной как солнце на сером небе, выглядывающее из-за плотных туч, улыбалось неземной улыбкой сияющее лицо девочки Маши.
Когда прозвенел звонок и нас отпустили, я выскочил на крыльцо и стал ждать, когда же выйдет девочка, но её не было. Что поделать, поплелся домой, где мама накрыла праздничный стол с салатом, лимонадом и абрикосовым тортом. Со стыдом, через силу улыбался маме, ел вкусный салат, не ощущая вкуса, запивая шипучим-колючим лимонадом, что-то отвечал невпопад, а сам всё время косил глаза в сторону окна, открытого во двор, где вот-вот должна же была наконец появиться солнечная девочка.
И она появилась! Наверное, тоже из-за стола с салатом, тортом и лимонадом. Я чмокнул маму во влажную щеку, поблагодарил её за вкусный праздник и выскочил во двор. Девочка сидела на краешке моей любимой скамейки и при моем появлении, сорвалась с места и чуть ли не побежала ко мне. «Где же ты был(а) так долго!» – вопили наши глаза. Но мы, воспитанные дети, взяли себя в руки, чинно присели на лавочку и, запинаясь от волнения, приступили к светской беседе о том, о сём. Потом подъехал на «Волге» Машин папа, подарил ей целый рубль и предложил сходить в кафе.
Весь день, тот волшебный светлый день, нам приходилось удивляться, насколько мы похожи. Оба в годовалом возрасте довольно бегло говорили, в четыре уже зачитывались первыми книжками и писали первые стихи, к наступлению школьной поры пережили крушение «первой любови», имели опыт потерь и разочарований, непонимания близких и одиночества. В кафе мы слушали песню Робертино Лоретти, знали наизусть итальянские слова и тихонько подпевали. У нас было одно и то же тайное место на берегу водохранилища, где мы иногда скрывались от дождя и от людей. Нам нравилось одно и то же – и отвращали похожие вещи. Нам вместе было удивительно легко и радостно. Вот так, в первый день знакомства, мы поняли, что наша встреча – это навечно.
Через три года у моего отца случился кризис, им вдруг «овладело беспокойство, охота к перемене мест». Он даже ездил в Иркутск, чтобы познакомиться с городом и новым местом работы. Предполагалось, что и мы с мамой поедем вслед за ним. Потом отец еще выезжал в Новосибирск и Красноярск… Эта неопределенность нашего будущего местожительства тянулась несколько месяцев. Разумеется, для меня эти дни стали испытанием на терпение и, пожалуй, на веру в силу молитвы. Я вполне трезво осознавал свою детскую слабость, видел мятущегося отца, смирившуюся с его решением мать – и ничего у меня не было, кроме молитвы. Да, тогда я впервые молился так, как горит сухое дерево от попадания в него молнии.
В те трудные месяцы я, должно быть, выглядел не очень героически, потому что однажды Маша во время прогулки спросила меня, что со мной, почему я такой грустный. Минут десять я молчал, сомневаясь, стоит ли говорить об отъезде… В это время мы оказались в нашем кафе, сели за столик и стали ждать нашу веселую официантку. Сквозь огромные витринные стекла в помещение кафе лился яркий солнечный свет, было душно и немного страшно.
…И вдруг спертый воздух наполнился звуками с детства знакомой песни. Мы узнали «Ave Maria» Робертино Лоретти – и переглянулись! Сразу будто посвежело, из глубины памяти поднялись воспоминания детства…
Тогда я решился и сказал Маше о нашем возможном переезде в другой город, в Сибирь. Она низко опустила голову и немного помолчала, видимо, пытаясь разгадать тайну моих слов.
И вдруг Маша вскрикнула, выскочила из-за стола, плюхнулась на соседний стул, чуть не упала с него, бросилась мне на шею, крепко обняла и заплакала. Её лицо исказила гримаса боли, проступило выражение абсолютной беспомощности, как у маленьких детей, потерявших маму, от чего меня будто по сердцу резануло. Она разрыдалась и со всхлипами, размазывая слезы по искаженному болью лицу, запричитала.
Мне показалось, будто нас подняло высоко в небо, в самую гущу грозовой тучи. Вокруг воздух содрогался от грома, метались молнии, нас накрыло водопадом, град исколол кожу и одежду до трещин – и сквозь грозовое безумие высоким чистым голосом итальянский мальчик признавался в любви Божией Матери, а меня наполнял острой болью плач испуганной девочки, которая вцепилась в меня в поисках защиты и утешения.
– Арсюшенька, миленький, как же так! Ты понимаешь, мы же с тобой больше никогда, никогда не увидимся! Понимаешь – никогда! Я же умру без тебя! Я умру!..
– Ну, что ты, Машутка, не надо, не плачь, – шептал я, обескураженный внезапным приступом страха. – Может всё еще обойдется. Нет, нет, ты что!.. Мы с тобой никогда не расстанемся. Мы с тобой всегда будем вместе.
– Я умру, я умру без тебя, – повторяла она, как безумная.
И эта обида на лице, и эта беспомощность, и побелевшие пальцы, вцепившиеся в меня, и ручейки слёз по щекам, и огромные влажные глаза на красном лице, и, – столько же там было бездонного горя, острой боли... Что я мог сказать ей в утешение? Только одно…
– Маша, мы ничего не можем. Мы же еще такие маленькие. Что у нас есть? Только молитва! Давай молить Пресвятую Деву Марию, чтобы она нас никогда не разлучила.
– О-о-о, Арсюша, я обещаю молиться!.. – Девочка с такой надеждой ухватилась за мои слова, как утопающий за проплывающее мимо наполовину затопленное бревно. – Я так буду молиться, как!.. Пусть я сгорю в молитве как свеча! – Она подняла на меня огромные глаза и громким шепотом умоляюще произнесла: – Только не бросай меня…
Если честно, эта истерика девочки меня ошеломила!.. В моей семье никто никогда не позволял себе прилюдно рыдать, кричать, обливаться слезами, не обращая внимания на вытаращенные глаза окружающих. Меня пронзила сильная жалость к девочке и страх, что она вот сейчас, прямо здесь возьмет и умрет от горя. Да, я попросту испугался таких сильных чувств. Возвращались мы домой подавленные. Маша на прощанье положила свою холодную ладошку на мой нервно сжатый кулак, чуть слышно выдохнула: «прости, пожалуйста» – и мы расстались.
А на следующее утро она, как ни в чем не бывало, улыбалась и была совершенно спокойна. Она подошла на перемене и шепнула: «всё будет хорошо, вы никуда не уедете, я знаю»… Так и случилось. Отец успокоился, всё вернулось на прежние места и жизнь потекла дальше, по надежному руслу.
Конечно, наша любовь прошла испытания, и самым страшным из них стало искушение телесное. Когда по окончании восьмого класса мы встретились после двухмесячного расставания, по привычке пошли на пляж на «наше тайное место», по привычке разделись для купания, оглядели друг друга, и вдруг нас будто током ударило! Мы смутились своей наготы, как Ева и Адам после грехопадения. Оказывается за лето мы так долго не виделись и настолько повзрослели, что нас неудержимо потянуло друг к другу, как парня и девушку.
Мы отводили глаза друг от друга, мы смущенно смеялись и брызгались водой, изображая веселье, но я-то чувствовал, что наши отношения стояли над пропастью полного разрыва. Маша также знала, дай она волю нахлынувшим желаниям, нашей дружбе конец, мы предадим нашу чистую любовь, ту самую, которая начинается на земле и не кончается уже никогда. Вода ближе к закату стала ощутимо прохладной, поэтому мы подсознательно погрузили разгоряченные тела в холод, и вдруг моё оцепенение спало, и вспомнился вдруг стих Байрона, я его прочел вслух:
(Бич дружбы - страсть!) и от любви оков
Подобные свободны отношенья –
Нет лучше друга женщины. Таков
Мой взгляд; но чтоб вполне союз был тесен,
Не надо другу петь любовных песен.
Потом появилась простая и спасительная мысль, которую я высказал вслух: «Эврика! Маша, мы же брат и сестра! А это выше, чем мужчина и женщина», – а Маша, как это случалось и прежде, подхватила мысль и закончила фразу месте со мной: «…выше, чем мужчина и женщина». А потом на обратном пути, когда стемнело, и мы шли мимо целующихся парочек под звездами, мы заключили Пакт о Взаимном Целомудрии, который обязались хранить до смерти.
Да разве «от человеков было сие» – никак! Ангелы нас охраняли, чтобы защитить нашу вечную божественную любовь. Мы с Машей просто подчинились им, как проводникам воли Божией.
Вероятно, как следствие приобретенной в детстве mental handicap[1], для меня средоточие всего прекрасного размещалось в географическом треугольнике:
«Скамейка в углу дома – Кресло в маминой комнате – Балкон, выходящий во двор».
Отсюда я не только изучал вселенную, но и пропускал через сердце величие её красоты. Этот вроде бы крохотный треугольник на годы и годы стал для меня наблюдательным пунктом комбата, обсерваторией астронома, перископом командира подлодки, мастерской художника и кунсткамерой собственных переживаний. Здесь довелось пережечь в груди боль обид и позора, беспричинную радость детства от ерунды, мимолетное счастье и тоску юности, а чуть позже – мудрый светлый покой откровений.
Небо отсюда походило на карту мира, изуродованную примерным двоечником или спятившим фантастом: изъеденное по краям крышами в антеннах, потраченное кронами тополей, изрезанное лезвиями проводов. Небо выглядело линялым от пекла искусственных аргоновых солнц, разбавленное сизым удушливым смогом – но это небо! И оно таково, каково оно есть, и что толку пытаться очистить зеркальную бирюзу от бурой ржавчины цивилизации. Это моё небо и небо моих близких, соседей и родичей – наше...
Двор наш утопал в зеленых кудрях листвы, возлежал на травяном ложе. Двор наш гостеприимно распахивал объятия лавок, дорожек, спортивных площадок, пропахших бензином чрева гаражей; лабиринты кустарника – любителям уединения и асфальтовых дорог – путешественникам.
Никогда мною не овладевала «охота к перемене мест», больше свойственная натурам одержимым отчаянной скукой. Мне же и в собственном треугольном мирке жилось как в раю, словно вернувшимся на землю из древнего блаженного прошлого или занесенного свежими ветрами небесного будущего.
Конечно, и мне доводилось по велению свыше покидать лучащийся радостью след моего детства и удаляться в дикие джунгли неведомого, манящие неверным отсветом мечты и отравляющие в конце концов ядовитыми испарениями лживых наветов. Впрочем, случались изредка и там, извне, дивные секунды причастия к величию красоты вселенной, скорей всего унесенной в сердце отсюда, из детского рая и привитую на дикую землю чужбины.
Как еще объяснить те наши путешествия с братом Вадькой за три моря, вернее, за три горы, каждой из которых принадлежало своё неповторимое первозданное море.
Ему, аборигену, давно опостылили эти горы, море, крутые тропы средь колючих южных кустов, скалистые площадки на вершинах холмов, откуда открываются морские дали. Да и что ему сегодняшний цвет моря – глубокий изумруд или прохладная бирюза в серебристых чешуйках солнечных блесток, жемчужная пена по сапфировой волне или бежевый мрамор послештормового покоя! «Якби ти мені сало показав, ковбасу або вареники зі сметаною... А цього добра я вже і так багато бачив.»[2]
Значит получается, я из своего дворового пятачка привозил детонатор, а уже здесь на море собирал местный порох, чтобы соорудить ментальную бомбу, чтобы – как громыхнуть по туземной спячке гурманов «ковбасы або вареников зi сметаною», чтобы население стряхнуло пыльную паутину с сонных вежд и вновь открыло для себя красоту окружающей нас вселенной. И каждый раз ввиду надвигающегося взрыва эти, которые «вже і так багато бачили» заунывно просили, чтобы нам «как всем порядочным»: выпить, закусить, опохмелиться, снова закусить – и пузом кверху на пляж с панамой на бордовой морде лица.
– Нет! – глаголом жёг народные сердца неугомонный приезжий с детонатором в сердце, – мы прямо сейчас возьмем огромный рюкзак с палаткой, закидаем туда овощной ассортимент – сладкий перец, розовые помидоры, огурцы пупырчатые, зелень ароматную, красный лук, плавки, полотенца, спички с фонарем и солью – и двинем во-о-он за ту гору, где нас ждет неведомое нечто.
– А может не на-а-а-до? – ныл в ответ абориген. – Ну, что там такого… А у нас в холодильнике пиво с чипсами, а у нас кино по первому… А?..
…И вот мы идем под непрестанный минорный аккомпанемент, обливаясь потом, по раскаленному асфальту поселка, по горячим камням побережья, по колючим горным тропам, забираясь ввысь, чтобы замереть на минуту на вершине, усладиться горней красою – да и низринуться вниз, по петляющим кремнистым дорожкам к желанному синему морю. А уж оно, родимое, зовет, манит пушистой белой пеной и тугой зеленоватой волной: идите, плывите, наслаждайтесь в диком безлюдье природной красы. И вот мы, смыв с горящей кожи пыль и соль, легкие и довольные, лазаем у полуразрушенного ноздреватого волнореза и срезаем пиратским кинжалом огромные пузатые мидии с ладонь.
Вадька собирает по берегу сухой пропеллер плавника, разжигает дымный, почти без пламени костер, стреляющий камнями в разные стороны. Я нахожу среди прибрежного мусора лист кровельного железа и раскладываю на хлопающей ржавчине ряды мидий, прилаживаю огромную сковороду на камнях над углями, пылающими жаром. Мидии – одна за другой – подпрыгивают, бурые мохнатые створки лопаются, беззащитно раскрывая сочную розовую мякоть.
Мы хватаем моллюски и прыскаем в отверстую щель соком половинки лимона и, подцепив лезвием ножа, слизываем парящий железистой морской водой и лимонной кислотой студенистый сгусток и, почти не жуя, глотаем и глотаем упругую плоть моря и заедаем перцами и помидорами, разрывая пальцами и окуная в рассыпанную по плоскому камню крупные кристаллы соли, отхлебывая из оплетенной бутыли густую кровь изабеллы – и смеемся одними глазами.
Чумазые, потные и облитые соками всех цветов, всхрапываем старыми конягами, падаем в шипящую пену прилива, кувыркаемся как дети в мелководье, набирая в уши и в нос воду, и выходим на берег, по лоснящейся влажной хрустящей гальке, скинув с плеч десяток-другой, смыв печаль и суету монотонных дней – посвежевшими, молодыми, дерзкими!
Пока я, поглядывая на темнеющий полог неба, почти профессионально за пять минут ставлю палатку, брат как всегда с хитрющим взором пропащего наркомана, откуда-то с самого дна безразмерного рюкзака, купленного в ГУМе за девятнадцать-сорок извлекает исцарапанную гитару, но с инкрустированной перламутром розеткой, и новейшими нейлоновыми струнами – и открывает концерт под открытым небом. Откуда-то из скалистых ущелий, горных складок и колючих кустов выползают смущенно улыбающиеся парочки и, обняв облупленные плечи друг друга, поднимают глаза к фиолетовому небу, где как на фотобумаге в проявителе выступают белые пульсары звездных алмазов.
Вадька, заполучивший благодарную аудиторию, распелся, размял пальцы и глотку – и давай изливать в онемевшее со страху пространство ностальгические вокально-инструментальные перлы от шестидесятых прошлого до нулевых нынешнего столетия. Пошли вперемежку Битлз, Пламя, Лед Зеппелин, Красные Маки, Демис Руссос, Цветы, Шокин Блю, Алла Пугачева, Криденс, Юрий Лоза, Металлика, Интеграл, Юрий Антонов, Аэросмит, Беликов, Нирвана, Джо Дассен, Высоцкий, Браззавиль, Аквариум, Иглз Эйр, Окуджава, Пинк Флойд, Воскресение, Абба, Тухманов...
Мы, ошеломленные свидетели могучего таланта исполнителя, смотрим на фосфоресцирующее серебром тихое море, черно-фиолетовый небесный вельвет в звездных стразах, на рыжее пламя костра, стреляющее кремнистыми пулями, на зеленоватые трассеры летающих светлячков, на собственные блаженные рожицы, на пузатые оплетенные бутыли, пущенные по кругу, на неугомонного певца, наотмашь бьющего ногтями по струнам и орущего на изумленно притихшую вселенную свирепым баритоном, срывающимся в фальцет…
…Но повторяю: ничего этого не случилось, если бы я не привез с собой детонатор, прихваченный из стратегического арсенала моего дворового треугольника. А чуть позже и этот чудесный день, и эту ночь до рассвета я положу на полку моей домашней кунсткамеры, на ребра пылкой груди, на миокард сердца, на излучину правого полушария мозга, отвечающего за удачный исход именно такого рода предприятий.
Ноги несут меня по дорогам странствий, а разум сквозь молитвенное биение сердца, сквозь пространство и щелкающее секундной стрелкой время… мой неусыпный разум погружается в глубокие пласты памяти.
Итак я выхожу из своего треугольника и оказываюсь за границей двора.
Домашние запахи еды, травы и цветов растворяются в испарениях асфальта, дымах смога, пыльной травы и больной пожелтевшей пятнами листвы. Родные лица соседей и друзей сменяют лица незнакомцев. А вот тихий бульвар в старых липах, редкие прохожие огибают фонтаны, присаживаются на длинных скамейках под плакучими ивами, я же сворачиваю на проспект, откуда раздаются призывные шипящие звуки. Красавец-проспект течет потоками людей, огнями автомобилей, мерцает неоном реклам. Здесь свои потоки с островами и стремнинами, омутами и утесами.
Если свернуть направо и пройти мимо гастронома и ресторана, можно приблизиться к реке, от ее большой воды пахнёт тиной, влажной прохладой, бензином и рыбой. Я же сворачиваю в переулок, мои шаги эхом раздаются по тихому каменному лабиринту, еще поворот, еще тихая вечерняя улочка, а дальше словно раскрывает череду барханов пустыня. Никого и ничего. Здесь веет духом отчуждения человека от земли, от дома, родины и народа – дух выжженной солнцем степи, пустыни, камня, песка.
И вдруг за следующим барханом балки с ручьем по дну из лиловой темноты вырастает чащоба малых домов, полу-дач, полу-дворцов. Из-за высоких заборов, как из-за тюремной стены, долетают запахи жареного лука, цветов, собачьих меток, а так же приглушенные звуки: бормотанье телевизора и пьяных разговоров на крыльце, рыдания старенького магнитофона и ворчание собак.
Мне приходилось бывать в этих домах в качестве нежданного гостя. Куда только не заносило нас с Борисом после спонтанных знакомств в ресторане. Что происходит, когда пересекаешь границу частной собственности в виде калитки в заборе? Прежде, чем добраться до уюта обжитой комнаты, необходимо пройти сквозь пелену запахов мочи, навоза, кислятины, гнилья. Потом тебя непременно познакомят с душой дома, где немного зависти, чуть-чуть высокомерия по отношению к пленникам камня и асфальта, мелкая жадность («рюмочку своего домашнего, а на закуску только соленые огурцы, мы, простите, небогаты»), лукавство и настороженность, недоверие ко всем, особенно к трезвым и вежливым, хорошо одетым горожанам «из центра».
Бывали и другие дома с другой душой: мещанские и купеческие, ветхие, десятилетиями без ремонта, с удобствами во дворе. В таких заповедниках старины, отбывала земные сроки разной длительности «прожженная» интеллигенция, одряхлевшие хиппи, спившиеся, опустившиеся, но с обязательным «понтом»: стихи, картины, старинные часы с боем, печь с изразцами, старинная Библия, древние потемневшие иконы по стенам с отставшими обоями. Нищета с апломбом и заискивающее высокомерие: авось перепадет от денег в карманах чужаков, но и брезгливое отношение к достатку других, пусть и заработанному тяжким трудом. За рекой в соснах и березах селились нувориши, с этими всё просто: хвастовство, жадность и хищное отношение к любым ценностям: взять и присвоить, а где-то рядом свои в доску бандиты, воры и мошенники, помогающие им в осуществлении стяжательства.
Всё это разнообразие большого и мелкого зла походило на яд, растворенный в самой атмосфере той части города, которая поставила себя вне церкви, то есть мирской, – там царит зло, которого необходимо «устраниться», чтобы в церковной среде «создать благо», хранимое Богом для вечности, недосягаемое для липких пальцев стяжателей наличности любым путем. Эта потребность защитить все самое светлое в себе самом от всепроникающего мирского зла – вполне естественна, и нет иного пути как через обретение церковного покрова, сквозь очистительный покаянный огонь благодати. Наверное, как благодать смирения, так и зло гордости, похожи на радиацию, которую считают в полученных рентгенах через облучение – эти лучи невидимы, без запаха и цвета. Насколько облучишься черной гордостью или светлой благодатью – настолько суров или милостив суд, как, скажем, при защите диссертации белые и черные шары. Только те шары имеют зримую форму, а духовное облучение не имеет чувственных значений, а ощущаются только последствия: выздоровление или смертельное заболевание.
Поэтому ищу незримое в зримом, духовное – в чувственном, благодать в реальном земном храме с живыми священниками, которые обычными словами раскрывают мистику смысла жизни через реальные дела: молитву, исповедь, Причастие.
Проходя круги восхождения через опыт падений и восстаний, радость и тоску, контрастных ощущений духовной чистоты или скверны – нащупываю свои приемы устранения от зла. Словно тает глыба мирского стяжания и обесцениваются удовольствия мирской жизни. И те праздники с юбилеями и символы достатка (дачи, автомобили, поездки заграницу, рестораны и власть, деньги и драгоценности) – всё становится в тягость, от всей этой суеты веет смертью. А жизнь – она словно таится в простоте поста, вольной нищеты, скромности, уединения, тишины – и тут, в пустой келье аскета творится спасение души, не только твоей, но и тех близких, за которых молишься, которых учишься любить, не смотря на их агрессию к тебе, вплоть до желания уничтожить тебя, спасителя своего. О, в этой любви к врагам – великое искусство прощения, данного по благодати Бога Любви.
Ближе к лету мой треугольный мирок накрывала жара. Липкое душное пекло полдня к вечеру сменялось приятной прохладой, текущей с большой речной воды. Люди в легких светлых облачениях выходили из домов и, степенно шагая по мягкому жаркому асфальту, лишь кое-где политому из шлангов заботливыми дворниками, заполняли тенистые парки, фонтанные улицы, песчаный берег реки, до глубокой ночи блаженствуя в музыкально-винно-пищевых волнах летнего пиршества.
После томной ленивой жары вдруг налетят дожди, следом из далекой Арктики доползут гигантские языки холода и, не успеешь насладиться акварельными красками золотой осени, как всё замирает в предчувствии самой печальной поры: природа умирает, растительная жизнь впадает в летаргический сон, в коматозный провал. Воздух, еще неделю назад кристально чистый, наполняется горечью тлеющей листвы, перечным дымом костров, пожирающих малиновым пламенем растительных мертвецов. А какие ароматы застывают под космами плакучих ив, таятся в лабиринтах улочек, поднимаются от влажной хвои, берегового песка и густых туманов реки – они заполняют грудь пронзительной сладкой болью, которую ты будешь носить под сердцем до самой весны!
Этот переполненный тревогой воздух каждым вздохом проникает в легкие, потом, покалывая в солнечном сплетении, опускается до низа живота и растекается по ногам, по рукам, ударяя в затылок – и ты замираешь в предсмертном параличе, ощущая на языке горькую ядовитую сладость сиротских слёз. …Это когда девочка еще только вчера таяла в материнской нежности, а сегодня тупо стоит на кладбище, не понимая, почему все называют мамой ту белую неподвижную куклу в ящике, терпеливо ожидая, когда же придет мама настоящая, теплая, веселая, ласковая. А завтра малышку отправят в детдом, к злой чужой тетке-воспиталке, которая станет издеваться, бить, кричать, отнимать «рационные» мясо, масло, сахар; а окружат сиротку мальчики с уркаганскими ужимками и девочки с холодными глазками и кулачками, готовыми в любой миг избить новенькую, такую нежную, домашнюю, балованную, мамину…
Очень долго можно стоять в предсмертной оторопи, пережигая в себе тонкую тоску по тающей на твоих глазах жизни, пока не выпадет первый снег и не укроет черную землю белым накрахмаленным покрывалом, пока бодрый морозец не освежит гортань и не пахнёт от овощных рядов детским запахом мандарин, а от ёлочных базаров – праздничным духом хвои, пока не замигают на лесных красавицах гирлянды радужных огоньков, а в небо не взовьются, разлетаясь цветными фонтанами, яркие вспышки салютов.
А там и Рождество и забвение тленного, облаченного в нетление воплощением на земле бессмертного Сына Божиего. А там и всеобъемлющая радость жизни, и жизни вечной, в совершенной красоте любви. Но, видимо, необходимо опуститься до самого каменного дна, чтобы потом взлететь на мощной волне в лазурные небеса и застыть на пенистом гребне, задыхаясь от счастья стремительного вознесения с земного дна в небесную высь.
[1] Душевная ущербность (англ.)
[2] Реплика ленивого бандита из фильма «Служили два товарища» (1968г.)
Рег.№ 0123819 от 15 июня 2013 в 23:52
Другие произведения автора:
Нет комментариев. Ваш будет первым!
 Меню
Меню