Гора блинов высится на столе. Это у нас завтрак. Сейчас-то бутерброд, да яички на сковородке.
А у нас стол ломился от еды .
Стояли чашки с мёдом, со сметаной, с растопленным маслом. Молоко из русской печки, с вечера поставлено, топлёное. Пенка в палец толщиной. Мама пенку снимет, и ложкой ложит на блин тому, кто хочет. Тятя с пенкой любил. Они с Австрийцем по десятку блинов уметали. Чё скажешь? Мужики…Больше никогда в жизни я не ела блинов, вкуснее маминых. Не блины а сказка, нежные душистые, и много- много дырочек, как звезд на небе. Я любила с мёдом. Мама сложит блин треугольничком, макнет в мёд и подаст мне . С теплого блина сладость течет, я облизываю пальцы, глотаю эту сказку, и радости нет конца. Часто и яишенка была на столе. Но это же тебе не ужин, чтобы сидеть разъедатся…Но, худо-бедно самовар-то ведёрный выпивали.
За окном только светает. Отец уже во дворе, седлает Каурку. Австриец тоже во дворе. Они отзавтракали, сытёхоньки. Тятя со двора , работничков будить. Австриец достает воду из колодца и носит в избу, заносит наколотые дрова к печке. Это маме в помощь. Улыбнётся мне, потреплет мои рыжие кудряшки, и уходит к сараю , к стайкам, к бане. Я не знала, что наш Австриец пленный, что отец привез его ещё в гражданскую войну. Был он глухонемой от контузии, жил с нами в доме, ели все за одним столом. А было всех одиннадцать душ…
Тятя с мамой, нас семеро, Австриец и баба Катя, тоже глуховатая, и нам не родная. Чья она, никто не знал, но все ее любили. Она детей пестовала. Тихонько ходила по избе, что –то по мелочам делала.
Иногда я видела, как она сидела на крыльце, куда-то смотрела в одну точку, и о чем-то думала. И мне почему-то было ее очень жаль. Наверное, где-то у ней был дом, дети. Я этого не знала, и ни о чем не думала, но все равно жалела. Иногда подсяду к ней, маленьая, худеньвая, а она возьмёт мои ручонки и гладит их. А сама на меня и не глядит… Почему-то и мама со старшими сёстрами любили посидеть на крыльце . И Австриец сидел по вечерам один… А днём, по жаре, или в дождь мы с Райкой играли.
И еще помню куклу. В семье, где было шесть девочек, не было ни одной куклы. И когда баба Катя смастерила из старого чулка куклу с нарисованным личиком, с волосами из золотистого нежного льна,
(лен-то сами трепали, пряли и ткали всю зиму.) и даже пришила ей руки, правда, ног не было и сарафанчик из лоскутков, радости моей не было конца. Ясно, что такой красоты я не видела ещё в своей жизни. Самое интересное было у моей куклы- это глазки. Видать баба Катя не была художником, поэтому у моей красавицы один глаз был больше другого и бровь выше.
Поэтому кукла будто подмигивала мне, и говорила:- не бойсь. Очень я полюбила ее и гордилась. Ходила и думала, как ее назвать, да не одно деревенское имя ей не подходило. Вот сейчас я назвала бы её Консуэллой, или Джульеттой , но тогда я таких имён не слыхала. Вот хотела, да не успела. Никакого терпенья…
Понесло меня на улицу хвастаться. Крикнула своей подружке Райке Сёминой, чтобы выходила.- »Райка, выходи, у меня кукла» - Громко так крикнула. Тихо я не умела. Пока подруга моя тележилась , две девчонки подскочили, - « дай посмотреть», - ну и пошло… Колька «сопля» тут, как тут. Рванул мою куклу за голову, я к себе, девчонки к себе. Когда подруга выползла из-под подворотни, от куклы в моей руке осталась только её ручка без пальцев. Правда, пальчиков и сразу не было, и смотреть было не на што. Это было первое большое горе в моей маленькой жизни. Я ревела до икоты, и никто меня не утешал. Баба Катя была глухая, тятенька родимый где-то мотался на своем Каурке, некому было меня пожалеть. Приятели мои тоже готовы были плакать, глядя на тряпки, которые выпали из старого чулка. Больше в моей жизни не было ни одной куклы.
А жизнь шла, нет, не шла, а катилась веселым разноцветным колесом по пыльной и широкой улице родного гнезда.
Собственный дом и был мне гнездом, большим, теплым и уютным. Любимый суровый тятенька , с его неуемной натурой и бешеной работоспособностью, с мамочкой, доброй нежной и тихой как мышка. Мышка-то мышкой, а с домом и кучей «ордынцев» то есть нас, деток, она прекрасно управлялась. Не деревенская чистота в доме многих удивляла. Соседки, когда просто забегали чего-нибудь попросить, или чаевничать сядут, обязательно скажут:-
« Ох и чистота у тебя Пиама Васильевна, прям душа тает , когда бы ни пришёл… Пол-то как шёлковый, занавески играют… И как это у тебя стекла-то такие чистые, дом-то ведь при такой пылище у дороги стоит.» На что мама всегда каким-то тихим и вместе с тем горделивым голосом отвечала
-» Да ладно вам, бабы , расхвалили, как невесту. У меня ведь девчонки, вся работа на них по дому-то»- Я, когда слышала как мама хвалит своих «девчонок», в душе .своей маленькой, тоже гордилась , что и моя доля труда есть. Вспоминала, чего это я хорошего для дома делаю.? И ничего-то придумать не могла, так как ничего не делала.
Но однажды летом, мама попросила меня залезть под амбар и собрать там яйца. Кур у нас было не мерено , они шарились везде, где ни попадя и неслись некоторые , ясно , и под амбаром. А так как видно мама посчитала, что я, как самая худая, и росточком мала, под амбар легко залезу. Я и радёхонька, что заделье и для меня нашлось, нырнула туда. Если бы я просто так залезла под амбар, мне бы от сестёр попало. Молодцы курицы, знают, где нестись. Меня просить долго не надо. Главное, чтобы похвалили. Немного было жутковато, И я чуть-чуть трусила. Света мало, сверху висят тенёта, какая-то не живая трава, пух куриный,
мусор всякий и везде куряк. Я ползала, собирала яйца в подол платьишка и сначала передавала маме свою добычу, потом вылазила сама, как взъерошенная курица. Я вся была в сухом куряке, мои рыжие кудряшки в серой паутине. Если бы я видела себя в зеркале, я бы никогда больше не полезла под амбар. А так я спокойно лазила туда всё лето. Мама, когда хвалила «своих девок» , значит и меня тоже хвалила. По этому я сильно гордилась и хвасталась, что я уже большая…
Ну вот сейчас ,прям, не знаю про кого писать? То-ли про тятеньку, то-ли дальше про себя. Да ведь и про маму и про сестёр, да про всех надо, кого помню. Батюшки, как же я управлюсь? Сроду столько не писала.
Ладно, от себя не убежишь. Опять же, своя рубаха ближе к телу.
Про себя тоже местами интересно:-
Вот сейчас и про врагов можно.
Через дорогу, наискосок, стоял небольшенький домик тётки Стеши, жены тятиного племянника Пашухи. Фамилия у них была, как и у нас. Да чуть не пол – деревни были одной фамилии, наверное родня. Пашу я мало помню, а вот тётку Стешу хорошо. Да и все любили её и жалели. Потому, что все почти мужики по пьяни дрались, а этот племянничек жену свою уж сильно бил.
И бегала она от него по чужим избам, часто и к нам прибегала в наскоро накинутой шалюшке.
Мама ее привечала, а тятя, нахмурив свои рыжие брови, ( он тоже сильно рыжий был, весь в меня) шел к Паше, чего-то там, видно, ему говорил, и потом эта бедная Стеша, как на плаху шла домой. А детей у них была только Шурка, девчонка не красивая, тихоня, с моей сестрой Клавкой подружка. А тут случилось так, что Стеша была на сносях. Маленькая росточком, с личиком хорошеньким , веселая, добрая женщина. Чё уж там у них опять вышло, только пьяный Паша избил беременную жену. Она только открыла крышку подполья, хотела слазить по огурцы. Тут и муженек явился, взбесился да и столкнул беременную в подполье. Она там и родила Вовку и ногу сломала.
Мама моя видела в окошко, как муженёк этот пьяный шёл.
Видно сердцем почуяла недоброе, побежала через дорогу к ним. Так Господь и спас Стешу. А советская власть осудила Пашу на год тюрьмы.
…………………………………………………………………………………
Другие произведения автора:
Житие не святой Марии 7
С Рождеством...
Житие не свтой Марии 21.
Это произведение понравилось:

 Меню
Меню








 МАША! Я В ВОСТОРГЕ ОТ ЭТОЙ РЫЖЕЙ ДЕВЧОНКИ МАШЕНЬКИ! С НЕТЕРПЕНИЕМ БУДУ ЖДАТЬ ПРОДОЛЖЕНИЕ.
МАША! Я В ВОСТОРГЕ ОТ ЭТОЙ РЫЖЕЙ ДЕВЧОНКИ МАШЕНЬКИ! С НЕТЕРПЕНИЕМ БУДУ ЖДАТЬ ПРОДОЛЖЕНИЕ.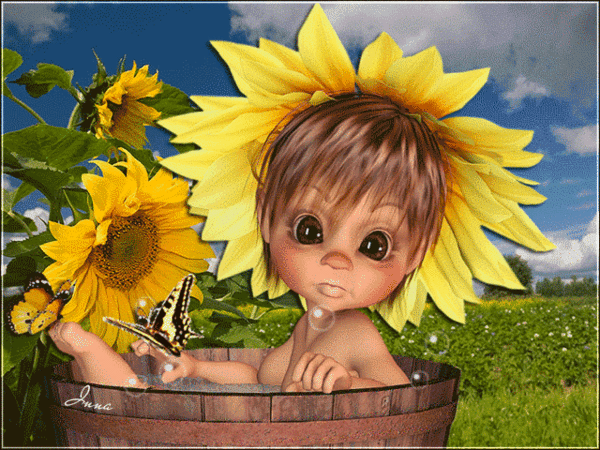











 Я так обрадовалась, насмотреться не могу. Независимо от возраста, в каждой женщине живёт маленькая девочка.
Я так обрадовалась, насмотреться не могу. Независимо от возраста, в каждой женщине живёт маленькая девочка.


