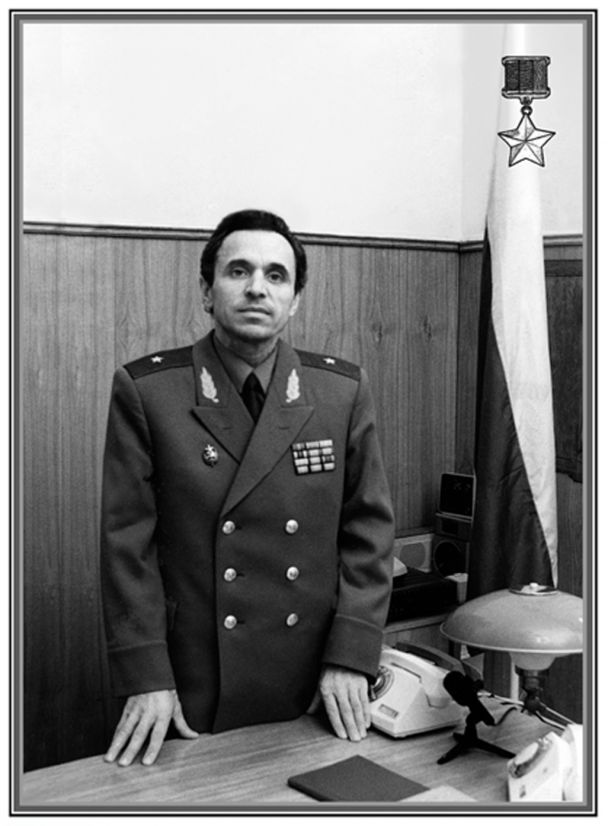
Другие произведения автора:
Древнеримскому поэту Марону Публию Вергилию (70 – 19 до н.э.)
Детство
Два отрывка из романа "Наш генерал"

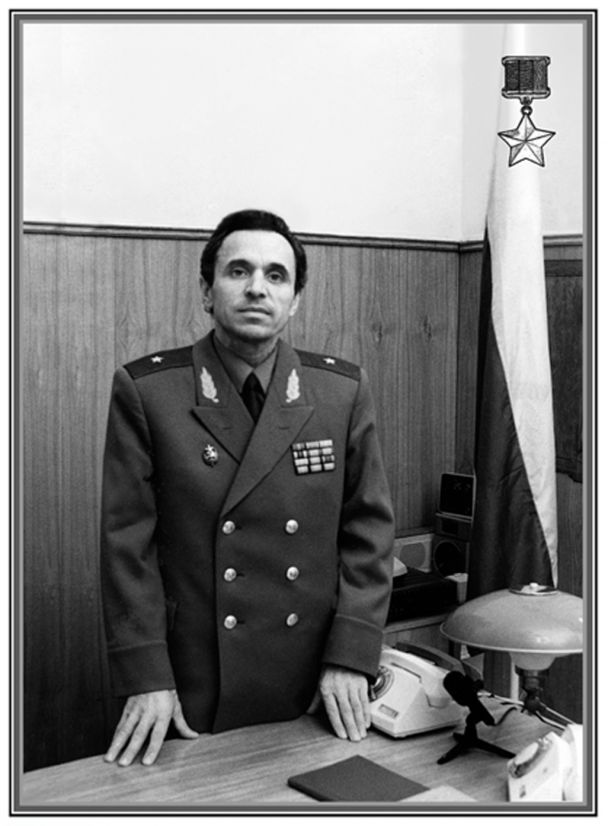
 Меню
Меню