Тающее отражение
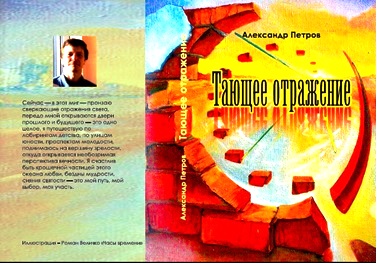
Тающее отражение
Роман
Александр Петров
Часть 1. Отражение света
Свобода! …вас примет радостно у входа… И мне уже открывается этот вход, и свежий ветер свободы льется оттуда и зовет, зовет… Когда мы собираемся за праздничным столом, обсуждаем ни политические новости, ни курс доллара или где бы стрельнуть денег — эти мелочи всегда сами собой разрешаются. Э, нет, нас занимает именно эта божественная сила свободы, которая оказалась такой мощной и всеобъемлющей, как инструмент, с помощью которого мы обретаем способность решать любые задачи. Свобода от рабства греху, свобода от зависимости, от вранья и подлости, от страха смерти и болезни — всё это мы обретаем благодаря вере. Ведь у нас за спиной, словно незримые ангельские крылья, сияет та самая огненная всемогущая Сила, о которой апостол сказал: «если с нами Бог, кто против нас!»
Сейчас плыву по реке, крошечному притоку огромного океана, потоку теплой воды памяти, предчувствий, предзнаменований — это настолько просто, плыть по реке — и настолько непостижимо и таинственно прекрасно, как птице лететь на крыльях, не задумываясь о природе подъемной силы, как дельфину веселой стрелой пронзать воду, как человеку жить и радоваться каждому мгновенью этого величайшего счастья жизни. …Каждой ступени, поднимающей нас в дивные высоты царства совершенной любви.
Сейчас — в этот миг — пронзаю сверкающие отражения света, передо мной открываются двери прошлого и будущего — это одно целое, я путешествую по лабиринтам детства, по улицам юности, проспектам молодости, поднимаюсь на вершину зрелости, откуда открывается необозримая перспектива вечности. Я счастлив быть крошечной частицей этого океана любви, бездны мудрости, сияния святости — это мой путь, мой выбор, моя участь.
Это моя жизнь, я плыву по течению реки, устремленной в океан, мне спокойно и радостно, мне дарована высшая свобода воли, я свободен более нежели птица в небе или дельфин в море — я свободен, как дитя Божие.
Перемещаюсь со скоростью мысли, в течение минуты навещаю друга в Германии туманной, приятеля в Австралийском Брисбене, брата в Канаде, сестру в Майами, крестника в Якутске, крестницу в Иркутске, тещу в Испании, соседа на Кипре — все они здесь, рядом, в сердце моем, в уме, мы проросли душами, сплелись корнями — Дух Святой сроднил нас, связал узами великой любви.
Лишь малое время — два, три часа — на Горе Блаженств я испытал блаженство истинной божественной любви — с тех пор, как с эталоном сверяю отношение к людям, потому что не было у меня тогда врагов, всех до единого любил, как Господь любит праведников и грешников, и солнечный свет и дождик посылает на каждого. Всего на несколько мгновений Господь сделал меня святым, лишь на краткое время благодать Божия подняла меня в рай — и эти мгновения стали самыми счастливыми. Лишь на миг в красотах природы, во свете радуги, в мерцании звезд, ликах святых икон, в улыбках детей и стариков — отразился прекрасный Лик Господа моего — и с тех пор всматриваюсь в отражения света истины, ищу следы чудесных посещений, прислушиваюсь к отзвукам всеобщей молитвы благодарения и славословия — и нет-нет, но разыскиваю, и найдя, ценю как наивысшую драгоценность, как незаслуженный самый ценный богатый дар.
Блаженный Силуан, каждое слово которого прожигает ум и душу, писал: «Господь любит всех людей, но кто ищет Его, того больше любит. «Любящие Мя — люблю, — говорит Господь, — и ищущие Мя обрящут благодать» (Пр. 8, 17). А с нею хорошо жить, весело душе, и душа говорит: «Господь Мой, я — раб Твой». В этих словах великая радость: Если Господь наш, то и все наше. Вот мы какие богатые.» Как взыграла душа от этих слов — подобно младенцу Иоанну во чреве Елизаветы при встрече с Девой Марией! Узнало сердце Господа моего, Бога Слово, дарованное мне словом Силуана Афонского. …Внезапно я стал богатым, и рухнули границы, снесло меридианы с параллелями, часы с минутами, рубли с долларами, километры с парсеками — богатство моей души, охватив землю и космос, уничтожило тленное, распахнув бесконечные просторы вечности. С тех пор я всюду свой, мне спокойно и уютно, как дома — в любой точке вселенной. Если все наше, то всюду мой дом, все пути — прямые и правильные, ведущие домой.
Ангел на плече
Люблю
Тебя, Ангел-Хранитель во мгле.
Во мгле, что со мною всегда на земле.
А. Блок
За окном летят поля, перелески, мелькают дороги, дома, лошади, коровы. В небе порхают птицы, плывут облака. Занятно смотреть в окно, появляется впечатление полета, в глубину души затекает теплая струя покоя. Вспоминается нечто похожее, что я испытывал однажды. Что это было, когда и зачем?.. Не помню точно, но было.
Апостол Павел о своем посещении Третьего неба много лет тому назад — и будто сегодня утром — сказал: «не знаю — в теле, или вне тела». Ну, во-первых, мне точно известно, что я не на Небесах, а во-вторых, не «в теле» — оно, лежит на дне окопа в позе эмбриона. Правда, иногда меня посещают сомнения, а моё ли оно, или все-таки чужое — вон их сколько на поле боя, в том же эмбриональном состоянии. Почему эмбрионы? Наверное потому, что нам предстоит родиться в новую жизнь, совсем не похожую на ту земляную, что для нас завершилась. А там, в ином мире, всё иное — то, что наше иррациональное сознание отвергает и повергает в ужас — духи падшие и ангелы Божии — выходят из сумрачного марева неверия, из суетного наркоза богоборчества и обступают духовных новорожденных, как бы вопрошая: что, малыш, сюрприз? А вот с этого мгновения давай разберем твою жизнь по событиям, по словам и даже помыслам.
Похоже на то, что я опростался от тела и свободно летаю со скоростью мысли, хотя, может ли быть какая-либо точность в таком деле... Могу предположить, душа моя, покинув тело, в течение трех дней прощается с земным и готовится к итоговому суду. Вот и земное время для меня уже изменилось, поэтому вряд ли могу точно определить который из трех дней проживаю в настоящий момент. С пространством, в привычном смысле слова, тоже всё не так… Впрочем, точность пространственно-временных координат в настоящее время меня нимало не занимает. Дело в том, что мне уже довелось на предельной скорости прокатиться по линии жизни до самого рождения и вернуться обратно — это путешествие весьма опечалило. То, что раньше казалось несущественным, обычным, распространенным, коснувшись меня лично, моей судьбы, предстало передо мной во всем преступном уродстве. …Это с одной стороны. И если бы не было «другой стороны» моей нынешней работы — спасительной, очищающей — не уверен, выдержал бы я всё это… всё это…
Вот и сейчас… или прежде? Неважно. Видимо картина с моим бездыханным телом в позе эмбриона на дне траншеи накрепко засела в голове. Видимо, чтобы животный страх смерти не остановил меня на пути самопознания, — именно сейчас… или прежде? Неважно. Независимо от последствия меня отнесло в точку рождения причины. И что самое удивительное, всё происходит на вполне будничном уровне. Вот, извольте видеть.
В управлении день выдачи зарплаты. В кассе обычная толкучка. Стою в очереди нервных, вечно куда-то опаздывающих мужчин, меня дергают за рукав, хлопают по плечу — смотри не увильни, собираемся в кабинете начальника участка. Я уныло киваю, мне все это опротивело, но вынужден терпеть. Склоняюсь к зарешеченному окошку, из толстых намоченных влажной губкой пальцев кассира получаю мятые засаленные купюры. Расписываюсь в строчке ведомости с моим именем, с обидно маленькой цифрой.
Отхожу от кассы, покидая нервную очередь, буквально выталкивающую меня — и сразу попадаю в объятия уже нетрезвого Васеньки, который цепляет меня за рукав и тащит во тьму коридоров с выключенными лампами дневного света. Не смотря на уменьшительное именование — Васенька, лапочка, малыш — детина огромен, силён, агрессивен, особенно после употребления спиртного. «Лапочка» Васенька грубо усаживает меня за длинный стол, составленный из трех обычных канцелярских, накрытых лиловыми чертежами, на которых нормальный человек ничего разобрать не сможет, будь он хоть дешифровщиком из очень специальных органов, но мы-то читаем, и более того — эту зашифрованную лиловую муть «выносим из камералки в натуру». Вот они, специалисты высокого профессионального уровня, которых с первого дня воспринимал не просто «инженеграми», а интеллектуальными суперменами, и глядел из своей мальчишеской тупости снизу вверх. Это раньше, а сегодня за столом восседают опостылевшие коллеги, сотрясая накуренное пространство взрывами сквернословия, пошлого смеха и басовитых крякающих возгласов. Чувствую собственную чужеродность на этом «празднике жизни».
Всё как обычно — частокол бутылок, тарелка с нарезанной колбасой, трехлитровые банки с огурцами, помидорами, консервные жестянки с кильками в томате, шпротный паштет, грязные стаканы, один из которых наполняется наполовину и ставится мне под нос, заботливым «лапочкой». С утра во рту ни крошки, преодолевая спазмы желудка, с отвращением выпиваю залпом, хватаю кусок колбасы, огурец, жую, глотаю, запиваю кислым выдохшимся пивом. С минуту ожидаю реакцию организма, ощущаю замещение тошноты и голода легким расслабляющим опьянением. Со стыдом наблюдаю в себе желание «продолжения банкета», что замечает и Васенька, подливая посошковую порцию водки, выдергивает меня из-за стола и грубо выталкивает в магазин за моей лептой, которую я обязан привнести в материальное основание пиршества.
Из прокуренного помещения выхожу на «свежий воздух», половину объема которого заполняют выхлопы двигателей автомобильных мастодонтов. Вприпрыжку перебегаю дорогу, лавируя между ворчливо рычащими грузовиками, влетаю в магазин. За прилавком стоит прямая как верста коломенская, как сибирский утёс, грозная продавщица Маня. Женщина испытывает ко мне прямо-таки материнские чувства, или снисхождение, учитывая мой удрученный вид, который самому противен. Увидев меня, улыбается, сверкая золотыми зубами, наклоняется под прилавок, достает оттуда два полиэтиленовых пакета. Заглядываю внутрь. В черном пакете обнаруживаю бутылку обычной водки, двести граммов докторской колбасы и банку кабачковой икры — это в управление на «праздник жизни». В светлом пакете — «Посольская», говяжья тушенка и буханка «Бородинского» хлеба в вакуумной упаковке — сплошной дефицит. Расплачиваюсь, чуть не насильно запихивая мятые купюры в ухоженные пальцы с маникюром в золотых кольцах — это чтобы не платить услугой за услугу. Знаем, плавали, что за услугу ожидает от меня эта мощная женщина с трепетным сердцем. Она грустно улыбается, намекая на то, что все равно когда-нибудь подловит меня и увлечет-таки в свою комфортно обустроенную подсобку. Я униженно улыбаюсь, рассыпая витиеватые благодарности.
Прячу белый пакет за пазуху безразмерной куртки, забегаю в управление, выставляю на стол черный пакет, выпиваю третий «транш» Васиного подношения и под ворчливое «мне нужно в туалет» сбегаю из управления. Чтобы максимально протрезветь и унять трусливую дрожь в руках и ногах, иду быстрым шагом по тротуару вдоль автодороги с рычащими грузовиками, окутывающими редких прохожих голубоватыми газами из толстых черных выхлопных труб. Раздражение вместе с темнеющим зданием управления уплывает назад, за спину, ему на смену приходит отчаянная решимость сегодня же разрешить свой «кризис среднего возраста», модный в среде рефлексирующей интеллигенции, захвативший в плен и меня. Это третья попытка, поэтому самая решительная. От этого захода ожидаю очень многого. Не может быть, чтобы все напрасно, должен же он, наконец, войти в мое положение и помочь.
В здание военкомата вхожу с решительным видом, солдатик на проходной даже головы не поднимает, наверное, задремал служивый, устал от мальчишек, за шутками, прибаутками, скрывающими страх. Большинство призывников совсем не жаждет оторваться от маминой юбки, чтобы попасть в грубые руки сержанта, а еще страшней — в лапы террористов в горячую точку. Их можно понять — ведь там бородатые звероподобные «духи» практикуют отрезание головы, сдирание кожи и распятие на кресте. Мальчишкам от перспективы такого «экстрима» ужасно страшно — а мне самое то, что нужно! …Чтобы наконец унять черную тоску моего бессмысленного существования, когда буквально всё нервирует, раздражает, бесит, а по ночам хочется выть и рвать зубами подушку.
Военкомат в эти вечерние часы опустел, только седой военком сидит за столом, перебирая личные дела призывников. За каждой такой вроде бы несерьезной бумажкой — чья-то судьба, родители, сестры, друзья. Вот полковник и раскладывает часами зловещий пасьянс, решающий, кому жить, а кому погибнуть, или стать инвалидом на всю жизнь.
Молча вхожу в кабинет военкома, решительно сдвигаю бумаги, расчищая оперативный простор. Под гробовое молчание старого солдата выставляю на стол бутылку водки, банку тушенки, кладу буханку хлеба. Полковник тяжело вздыхает, свинчивает пробку, наливает себе полный стакан экспортной водки, мне плещет на донышко. Крупными глотками выпивает весьма качественный напиток, по-деловому армейским ножом вспарывает жестянку тушенки, сдирает полиэтиленовую пленку вакуумной упаковки с буханки хлеба, разрезает на толстые куски. Садится в кресло, неспешно размазывает по хлебу душистую массу тушенки, тщательно пережевывает, глотает, закуривает «Беломор» — и только после череды манипуляций поднимает на меня усталые глаза с красными прожилками под кустистыми седыми бровями.
В этом кабинете я уже в третий раз, поэтому тупо молчу, разглядывая левый погон военкома с тремя звездочками по двум просветам. Но не сам погон привлек сейчас мое внимание — за спиной полковника появился макет памятника с коленопреклоненным ангелом. Так вот этот самый ангел, оплакивающий погибшего воина, печальный небесный вестник — будто сидит на плече полковника и что-то пытается мне сказать.
— Ну что тебе от меня нужно? — хрипловатым голосом смертельно усталого человека спросил военком. — Сколько раз объяснять, я тебя в армию на возьму.
— Не имеете право! — взвизгнул я мальчишеским фальцетом. — Я доброволец! Отличник боевой и политической, наконец! Немедленно отправьте меня на войну!
— Да иди ты… — прошептал полковник и, показав за спину, как раз туда, где находился ангел, сказал: — Видишь макет памятника, это для Аллеи героев на кладбище. Там их, с нынешней войны, уже двенадцать. Матери пацанов сходят с ума от горя, отцы следом за сыновьями умирают от разрыва сердца. А знаешь, что самое страшное для меня? Такие как ты, хорошие парни, погибают в первом же бою. А подлецы, трусы и садисты, кому «война как мать родна» — эти живут до старости, и еще умудряются с войны привозить так называемые трофеи — магнитолы, автомобили, золотишко, наркоту. Хочешь в цинке через месяц поступить на Аллею героев?
— Хочу! Очень хочу! — выпалил я.
— Пошел вон, мальчишка! — рыкнул полковник, хватаясь за рукоятку широкого армейского ножа с пилой по обуху. — И чтобы я тебя больше не видел! — И для большего эффекта, сопроводил команду на выход тирадой отборного сквернословия.
Вылетел из военкомата, как щенок, избитый грязным веником. Долго плутал по ночным улицам, вернулся в управление, где «праздник жизни» продолжался, как водится, до утра, пока не опустеют кошельки, пока не уснут на столах самые стойкие бойцы алкогольного фронта. Как всегда, под занавес появился Юрка. Он молча положил руку мне на плечо, прошептал:
— Опять прогнал?
— Ага.
— Так тебе, дурачку, и надо.
— Почему это, как добровольцем на фронт — так сразу «дурачок»!
— А потому, что в твоем случае это дезертирство. Фронт сегодня здесь, в этом пьяном бедламе, среди вот этих сто раз обманутых, тысячу раз ограбленных трудяг. А ты, значит, решил покончить жизнь самоубийством? Да еще нашего военкома под это подписать? По-моему, это подло.
Через два дня меня вызвали в отдел кадров. Замшелый чиновник старой школы, «умеющий работать з людямы», профессионально пряча глаза, протянул зеленую бумажку. Я расписался в получении повестки от военкомата — мне предписывалось явиться в 9-00 в клинический институт для медицинского освидетельствования. Там в течение трех дней меня осматривали светила медицины, просвещали рентгеном, кололи иголками, прощупали каждую клетку организма. Пока я боролся с рвотным рефлексом, истекая густой слюной и слезами, нежные девочки-медсестры решительно засовывали в горло японскую лампочку гастроскопии, рассматривая изнутри каждый сантиметр кишечника. Наконец, выявили у меня хронические заболевания, о которых я и не подозревал. Вердикт симпозиума был страшен, во всяком случае для меня: не годен к строевой в мирное время, ограниченно годен в военное время. То есть даже во время войны — в лучшем случае, сидеть в военкомате и корпеть над бумагами. Понятно, товарищ полковник, так значит, вы отомстили за мою экспортную водку, дефицитную тушенку, хлебушек в вакууме — и требование отправить добровольцем на фронт! Ну, спасибо!..
Через полтора месяца зашел ко мне Юра. Он был печален, как никогда. Швырнул передо мной на стол пачку фотографий. Пока он извлекал из портфеля, открывал, разрезал и наливал, я тупо разглядывал цветные фотографии 19 Х 24. Растерзанные тела солдат в ярко-алой крови, иссеченные осколками, черные от копоти бронетранспортёры — и надо всем этим белозубые бородатые бандиты, позирующие для иностранных наймитов, плативших за каждого убитого русского воина немалые деньги. В последнюю фотографию я впился глазами, мои трясущиеся пальцы не хотели держать глянцевый листок, он трижды выпадал из рук. Но я снова и снова поднимал и рассматривал. На той фотографии наш военком стрелял в воздух, у его ног — парила теплая влажная земля траншеи. В яме стояли рядом восемь красных гробов. Слева и справа от большой братской могилы стояли солдаты в парадной форме, стрелявшие в воздух. За спиной военкома белел высеченный из мрамора памятник погибшим героям, а на плече его, как тогда в кабинете, плакал коленопреклоненный ангел.
— Если бы полковник тебя не прогнал, в одном из гробов лежал бы ты, Платон, — проскрипел Юра. — Верней, фрагменты тела. Когда ты был у него в последний раз, он как раз подбирал кандидатов для срочной комплектации роты новобранцев. Тогда наши войска несли большие потери. Так вот во время передислокации роты к месту несения службы, они попали в засаду. Короче, всех до одного расстреляли.
Слушал Юру, а сам рассматривал белого ангела на плече полковника. Это он, мой ангел спас меня от неминуемой гибели. И не случилось бы ни боли покаяния, ни счастья очищения.
А началось-то всё как бы ненароком, правда, в тот день у меня случился очередной приступ недовольства моей бессмысленной жизнью. Как я понял чуть позже, это голодная душа требовала заполнить космический черный вакуум, больше похожий на разверстую бездну отчаяния.
Забрёл я тогда в крошечный монастырь, расположенный в лесной глуши, на берегу озера с темной торфяной водой и камышом по берегам. Впустил меня седовласый мужчина в залатанной телогрейке, велел сперва зайти в церковь, поклониться престолу. Я сделал, как он велел. Потом направил в дом, чтобы там ожидал вечернюю службу, на которую позовут ударом колокола. Я занял пустую комнату, сел на кровать и заскучал. Прилег на спину, стал рассматривать потолок в потеках, заскучал еще больше. Рывком поднялся, вышел из своей комнаты и толкнул дверь в соседнюю. Там стоял монах, не в телогрейке как давешний вратарник, а в черной рясе, именно такой, как нужно, такой, как в кино. Не смотря на моложавое лицо, борода у него была длинной, с проседью.
Давно хотел поговорить с монахом — любопытно было, почему молодой человек, неглупый, не урод, не псих — уходит из мира, где так много всего интересного, красивого. Как, например, отказаться от веселья, вина, женщин, жареного мяса, кофе с сигаретой? Зачем нормальному мужчине забираться в лесную глушь, самому себя закрывать в тюрьму?
Пока я раздумывал, с какого вопроса начать, монах молча подошел к настенной полке с книгами, снял оттуда потертый том под названием «Апостол» и протянул мне. Потом открыл дверь и так же молча выпроводил вон. Видимо, прервал молитву, что для него является первейшей обязанностью и, по всей видимости, единственным утешением. С этим тоже еще предстоит разобраться, ну а где еще, если не в монастыре, именно здесь к тому все и располагает. Нехотя вернулся в комнату и от нечего делать открыл антиквариат на первой попавшейся странице. На глаза попались странные слова: «Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать».
Ничего себе, думаю, значит Бог заранее знал, что мы все станем преступниками, позволил этому случиться, и все для того, чтобы простить? В голове зароились мысли, много разных мыслей, и еще больше вопросов. Стал читать дальше: «О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему?» Мой рациональный разум сходу принялся отвергать каждое слово апостола, я ничего не понимал, но мне это все очень нравилось, с каждым словом, с каждой секундой все больше!
Даже мысль такая прозвучала: как здорово сказано! Неужели это когда-то давным-давно сказал человек? Сверху на листе прочел: «Послание к римлянам апостола Павла». Ну да, апостол, ну конечно, ученик Господа Иисуса Христа — но все же человек. Откуда, спрашивается, в его голове появились такие мысли, кто ему сказал, кто научил? И тут вторая мысль прозвучала во мне: так люди не говорят, такое может сказать только Бог, через человека, своего ученика, апостола, святого. Принялся читать дальше, забыл обо всем, увлёкся… И вдруг понял, что, пожалуй, все что читал раньше — ну там, детективы, романы, классическую литературу в школе — показалось пресным, что ли, пустым, и уж точно, сотни книг, прочитанных прежде, не стоят одной строчки из Апостола.
Внутри что-то щелкнуло, неожиданно встал и, прижимая Апостол к груди под лацканом пиджака, — вышел из монастыря. На прощанье оглянулся — и напоролся на пронзительный взгляд монаха, стоящего в воротах. Думал, он закричит, потребует вернуть святую книгу, но молчаливый человек в черном лишь перекрестил меня и вернулся вовнутрь, наверное, на вечернюю службу, о которой сказал привратник. По-прежнему, прижимая Апостол к груди, как драгоценность, быстрым шагом вернулся в санаторий. Не терпелось вновь уединиться в комнате, чтобы приникнуть к источнику таинственных знаний. Всю дорогу в голове звучало вновь и вновь: человек так не говорит, так может говорить только Бог!
Ночь я провел в обществе удивительных людей. Они думали и говорили не так, как мои знакомые. Каждый шаг, каждое слово, каждый вздох этих людей — подчинялись чему-то очень сильному, великому и мудрому, что я определил словом «вера».
Тогда, именно в ту ночь, мне удалось впервые испытать чувство полёта. Нет, тело лежало на кровати, глаза читали книгу, ум погружался в пучину мудрости, а душа на огненных крыльях ангела летела, летела в сияющие небеса.
Вот почему человек в черном не остановил меня — знал, что прочтение Апостола сообщит моему проснувшемуся разуму голод и острое желание приникнуть к Первоисточнику. Получив из моих рук томик Апостола, он сразу протянул Евангелие, так же молча. Там я обнаружил закладку. Прямо на ходу, пока ноги сами несли меня по лесу к зданию санатория, я открыл книгу на Евангелии от Иоанна. Если бы на горизонте вырос клубящийся гриб ядерного взрыва, должно быть, прочитанные мною слова затмили бы эффект от апокалиптического события. То, что я прочел в Апостоле, верней, то, что мне удалось понять — спрессовалось в эти слова: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин.1:1).
Вот он — ключ, открывающий огромную дверь в непостижимую вечность. Любимый ученик Иисуса Христа получил это «сообщение», а лучше сказать «откровение», непосредственно от Бога. Мне приоткрылась завеса бытия Сына Божиего до Его воплощения на земле. Он был Богом Словом. Дальше — больше: «Все чрез Него на́чало быть, и без Него ничто не на́чало быть, что на́чало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков». Подпрыгивая на кочках, не замечая хлестания ветвей по лицу, я именно летел над землей, ощущая себя человеком — челом, устремленным в вечность, — возможно, впервые в жизни.
Хотелось закричать на весь белый свет: это Бог говорит с нами! Чем заслужили мы, отвернувшиеся от Него, столь высокого божественного доверия? А ведь только открой самое мистическое Евангелие, прочти первые слова — и вот она — вечность в самом простом величественном виде! Сам Бог открывает нам тайну из тайн.
В тот миг я впервые обратил внимание на закладку — то была картонная иконка 9 Х 12 под названием «Иоанн Богослов в молчании». Ангел на плече Иоанна диктовал, апостол же записывал в книгу первые слова Евангелия.
И опять ангел! И что характерно — на плече!..
Я пронесся мимо людей, фикусов, кресел и стойки в рекреации санатория, вошел в комнату, запер дверь и сдавленно закричал: «Вот оно: Слово — начало всей жизни человеческой!» Как же я умудрился прожить такую долгую жизнь, такую пустую и суетливую, и только под занавес узнать эдакую красотищу! Вспомнились слова — неважно кто их произнес — важна только суть: «Красота спасет мир». Конечно, в миг, когда распахивается дверь в бесконечную огненную вечность, обнажается великая красота нашей человеческой жизни — она изначально божественна! … И только от каждого из нас зависит, откроем ли мы дверь Стучащему, впустим ли в сердце эту совершенную Красоту — Бога Слова, Бога Любви, Сына Божиего, Сына Человеческого.
Забыв о еде, о сне, о лечебных процедурах — обо всем на свете — я прочитал Евангелие, буквально впитывая каждое слово. И уже вечером стоял в монастыре перед тем самым человеком в длинном черном одеянии, который открыл мне дверь в прекрасную вечность. Мы проговорили всю ночь, до рассвета. Получив самое важное задание — приготовиться к исповеди за всю прожитую жизнь — я вышел из церкви, поднял глаза к небу, увидел мириады ярких звезд над головой — и принял эту божественную Красоту в сердце. Оно, больное сердце мое, вдруг распахнулось и без труда вместило в свои необъятные объемы всю эту безграничную вселенную, всех людей, животных, птиц, звезды и весь космос…
В те начальные дни и ночи я только начал покаяние. Я тогда не подозревал, насколько лет растянется это животворящее действие. В те начальные дни мне удалось лишь слегка коснуться великой тайны вечности, сделать первый шаг, но и за это получил нечто настолько огромное, что называется сЧасть-ем. Да, я стал частью Божественной вечности, принимая внутрь своего естества часть Божественной Плоти и Крови. Я стал частью бесконечного божественного совершенства. Частью чего-то настолько великого и таинственного, что умом понять невозможно — только верой.
После первой исповеди, которую помог совершить иеромонах Иосиф — так его звали — он позвал меня в свою келью и сказал: «Я только слегка помог тебе исповедать самые страшные смертные грехи. А есть еще такие, которые скрываются за мелкими, но от этого не становятся менее коварными. Тебе еще предстоит многое узнать и испытать на пути покаяния. Я помог тебе сделать первый шаг, и вот смотри, что они мне сделали. — Он поднял черную рубашку, открыв на своей спине и боках красно-фиолетовые гематомы. — Так они мстят за то, что мы изгнали с Божией помощью часть нечистых из твоей души.»
Вероятно, из-за моей немощи, видимо, из-за непонятной мирянам снисходительной монашеской любви, отец Иосиф принял на себя месть сил зла. Почти, но не всю. Немного и мне досталось. И этого «немного» хватило бы на то, чтобы умереть и низвергнуться в ад, если бы не покров Божий, который распростер надо мной монах своей привычной монотонной молитвой.
Он протянул мне книгу про афонских монахов, по привычке заложив нужное место иконкой «Прп. Иосиф Исихаст». И вот, что я там прочел: «после таких восьми лет от палки, которой давал своему телу каждый день из-за плотской брани, от поста, который я держал, бдения и других борений, я превратился в труп. И слег больным. И уже отчаялся. Ибо потерял надежду победить бесов и страсть. И однажды ночью, когда я сидел, открылась дверь. Я, склонившись, творил Умную молитву и не посмотрел. Подумал, что это отец Арсений открыл. Затем чувствую снизу одну руку, раздражающую меня к наслаждению. Смотрю и вижу беса блуда, плешивого. Я бросился на него, как собака, такая была у меня на него ярость, — и схватил его. И на ощупь волосы у него были, как у свиньи. И он исчез. Все вокруг наполнилось вонью. И с этого мгновения ушла вместе с ним и брань плоти. И стал я впредь безстрастен, как младенец. В тот вечер показал мне Бог злобу сатаны».
Потом всю ночь видел я со стороны, как бы из-за толстого стекла, эту войну геронты Иосифа с черными существами, с серной вонью и с парализующим страхом, сковывающим всего меня, стороннего зрителя. Конечно, я был предупрежден, конечно, был всего-то наблюдателем, но и эти страсти могли бы меня погубить, если бы не моя Иисусова молитва, которая пульсировала во мне, как мощный поток крови в артериях. И тут вспомнился разговор двух подвижников: «Кто тебя научил самодействующей молитве, отче?» — «Бесы». И еще: «Всё от меня было», и еще: «Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать».
Так начался, и еще очень нескоро закончится, мой путь к истинному покаянию.
Отсроченное убийство
незнакомец был киллером "Триады", владеющим
техникой ударов отсроченной смерти, именно этот удар и стал причиной смерти
Брюса Ли
А. Сидоренко «Мир непознанного»
Впервые услышал ироничное: «Так говоришь, людей не убивал?» — это когда на первой исповеди на вопрос «убивал?» ответил твердо: «нет!»
В тот же миг передо мной как будто открылась давно закрытая дверь в мою «героическую» юность. И что же я там обнаружил!
Завидовал я лучшему другу? Убеждая себя, что мне эта страсть несвойственна, но иногда, лишь иногда, чувствовал, как в груди вздрагивала холодная скользкая гадина, затягивая петлю на обмирающем сердце. Но вот ко мне приближается Юра, на его мужественном благородном лице сверкает дружеская улыбка, он говорит нечто приятное — змея выскакивает, расправляет перепончатые крылья и черным драконом улетает — куда? — наверное к другому юноше, у которого друг не такой благородный парень. Да, безусловно, Юра обладал не только крепкими нервами, тренированным телом, но и тонкой душевной организацией. Ко всему прочему, он был безумно смелым, иногда безрассудным и даже безалаберным, но мне-то было известно, что под маской шута, которую он изредка надевал, всегда и везде скрывалось истинное лицо — расчетливого, спокойного, уверенного в своих силах мужчины. Конечно, мне, мальчишке, хотелось хоть чуточку быть на него похожим.
Может быть поэтому, когда ко мне подошел плечистый седой тренер и предложил «походить на его тренировки, может, понравится» — я воспринял это событие, как перст судьбы. Особенно учитывая, что он тренировал Юру и всего за полтора года сделал его чемпионом города. Мастер, как его называли, при моем появлении в спортзале клуба Динамо, приказал переодеться и надеть огромные тренировочные перчатки, которые кололись изнутри конским волосом и казались пропитанными насквозь едким мальчишеским потом. Мы оба забрались на ринг, я запрыгал на войлочном покрытии, а Мастер заставил бить себя, что есть сил. Наверняка, я уподобился ветряной мельнице, размахивая руками, меня пронзил стыд за свое неумение хотя бы чуточку пробить его защиту и нанести удар в голову. Но вот он слегка коснулся мягкой кожей перчатки моего лба, по которому струились ручьи пота, перед глазами поплыли его улыбающееся лицо, канаты, светлый квадрат окна, насмешливые рожицы юных спортсменов — и я упал в его железные объятья:
— Ничего, ничего, ты молодец, на сегодня достаточно, — сказал он мне на ухо. — Прими душ, переоденься и зайди на минутку.
Холодный душ подействовал на меня ободряюще. Я стал легким и гибким. Усталости как не бывало. Головокружение прошло. Я насухо вытерся, одел брюки с рубашкой и с курткой в руках вошел в зал. Мастер остановил меня на пороге, пальцем показав на мои не вполне чистые кеды — я замер. Ну, думаю, вот и закончилась моя спортивная карьера. Но тренер положил тяжелую руку мне на плечо и доброжелательно произнес:
— Ну, во-первых, я тебя беру! Завтра приходи не как сегодня с набитым пузом, а поешь за два часа до тренировки. Во-вторых, на ринге я узнал твои возможности и уяснил, как тебя тренировать. У тебя длинные руки, ты такой… интеллигентный юноша, поэтому будем из тебя лепить фехтовальщика — это такой стиль ведения боя, когда ты держишь противника на длинной дистанции и набираешь очки неожиданными точными ударами в открытую защиту. Но как я успел заметить, твои трицепсы длинны и неплохо накачаны, грудные мышцы тоже. Поэтому! — Он поднял указательный палец. — Я тебя научу сильному удару с правой, доведем его до трехсот килограмм — и ты каждый бой будешь завершать нокаутом в первом раунде. — Большой палец нырнул за спину. — Думаешь, почему эти пацаны смеялись над тобой?
— Наверное потому, что я дрался как девчонка, — предположил я уныло.
— Ничего подобного, — произнес он шепотом. — Они завидовали тебе. Ни у одного из них нет таких физических данных и умственных способностей, как у тебя. Уверен, если бы на моем месте там, на ринге, оказался любой из них, он бы уже схватил нокаут, от тебя. Вот так. Завтра продолжим. До свидания.
Полгода тренировок у Мастера — право слово, великого мастера — пролетели как три дня. Он был строгим и даже в чем-то жестоким тренером, но на первых соревнованиях я понял, что он успел всего за несколько месяцев «вялую девчонку» натаскать до уровня непобедимого воина. На тренировках, как Луи де Фюнес во время спектакля, я терял по три килограмма собственного веса. С тела слетел юношеский жирок, лицо стало «высеченным из гранита», мышцы даже в расслабленном состоянии были твердыми и, казалось, звенели как та самая сабля, которой дрались фехтовальщики. После упрямых тупых избиений огромного мешка с человеческий рост, я подходил к динамометру, частыми короткими вздохами нагнетал внутри силу, наконец, происходил внутренний взрыв, я бил без размаха по мягкому кожаному диску, стрелка подпрыгивала и замирала на цифре «300», потом довел показатель до «360». Разумеется, чтобы не закрепостить мышцы, я «фехтовал» с тренером на ринге, прыгал через скакалку, ритмично бил дрыгающуюся грушу, выучил и довел до автоматизма три «моих персональных» серии ударов — и тут пришло время городских соревнований.
С интересом наблюдал за собой, как бы со стороны — вроде бы должен волноваться, но оставался спокойным как удав. Мастер, который после первого разговора на пороге спортзала, больше никогда меня не хвалил, перед выходом на ринг лишь хлопнул тяжелой рукой по плечу и тихо произнес:
— Только нокаут в первом раунде! Как откроет защиту, сразу бей прямым справа.
Передо мной на ринге, в противоположном синем углу, сидел, развалясь, огромный детина, жирный, пузатый, на полголовы выше меня. Интересно, из какой-такой весовой категории этот хряк — явно не моей! Когда детина изобразил страшную рожицу и плюнул в мою сторону, я вспомнил его и сразу понял слова тренера «только нокаут в первом раунде». Во-первых, видел его у входа в наш спортклуб, он также как сейчас в развалку сидел в огромном ядовито-красном Кадиллаке, ожидая, скорей всего девочку из секции художественной гимнастики — там водились такие красавицы, от созерцания которых дух захватывало, только они смотрели на боксеров свысока и близко к себе не подпускали. Ну точно, вот она, выпорхнула из дверей, балетной походкой подлетела к автомобильному монстру и привычно заняла место рядом с плейбоем местного разлива, а тот даже не взглянул на красавицу — его больше занимала реакция таких же как я безлошадных пешеходов, толпящихся на остановке автобуса под бетонным козырьком.
После удара гонга, детина продолжал сидеть, выражая презрение ко мне, рефери и всей публике, собравшейся на гладиаторские бои. После третьей просьбы рефери встать и приступить к избиению младенца, прыгающего напротив, хряк с трудом оторвался от табурета и пошел на меня в атаку — именно пошел, вразвалку, лениво… Руки в жестких перчатках, явно не по рангу соревнований, он держал на уровне пупка. Я охладил его пыл парой быстрых ударов в печень и сердце — сразу он, скорей всего, ничего не почувствует, зато через минуту-другую у него заболит живот и начнутся перебои в сердце. А сейчас жиртрест на секунду остановился и удивленно воззрел на меня, как сонный бизон на убегающего кролика. Мне бы и этого хватило, чтобы нанести нокаутирующий удар, но какой-то мелкий шалун внутри попросил сперва поиграть с толстяком, сбить с него высокомерную спесь, а уж потом нанести тот самый разящий удар справа, весом в 360 килограмм. И я поддался искушению…
Отскочил от соперника, закружил вокруг, нанося удары слева, заставляя привыкнуть к тому, что именно слева ему грозит опасность. Вот он и кулаки сдвинул влево, да там и держал на уровне пояса. Мастер из своего угла за канатами уже махал рукой: мол, кончай балет, бей справа! …Лишь на долю секунды отвлекся, и в тот миг откуда-то снизу в меня полетел жесткий кулак, но настолько медленно, что я успел уклониться, защитив голову, но кулак достал мое левое плечо, там словно взорвалась бомба, полыхнула горячей болью — и я почувствовал себя перед динамометром, накапливая внутри мощность взрывного импульса. За сотую долю секунды передо мной мелькнуло самодовольное поросячье лицо противника, моя правая рука незаметно для глаз дернулась, превратившись в серое облако — глаз человека не способен зафиксировать траекторию полета перчатки во время нанесения разящего удара. Все наблюдали только вот что: огромное тело передо мной качнулось и с грохотом рухнуло на войлок ринга. Трибуны взорвались воплями восторга, Мастер облегченно вздохнул, показав мне кулак: мол, я с тобой еще разберусь. Рефери, увидев выброшенное белое полотенце тренером противной стороны, поднял мою руку, а я, весело насвистывая, подлез под канаты и оказался в железных объятьях Мастера, ничего хорошего мне не предвещающих.
Потом был допрос в кабинете заместителя министра МВД — он-то и был папой того хряка, которого я отправил в нокаут. Самое интересное, что сам родитель имел весьма субтильные формы тела и вёл себя уважительно и вежливо, хоть и удалось заметить в нем какую-то гаденькую скрытую ярость. Я уже было приготовился в наручниках выйти от него туда, где томятся заключенные преступники, но вдруг на меня напало такое спокойствие… В тот миг мне стала понятна безалаберность Юры — она была сродни смирению приговоренного на эшафоте, с любопытством наблюдающего за манипуляциями палача. Может, это настроение передалось заместителю министра, а может, Мастер серьезно поговорил с ним, только передо мной на поверхность стола лег распечатанный в типографии бланк.
— Можно узнать, что это? — спросил я, тупо уставившись на документ.
— Официальное предупреждение о том, что отныне тебе запрещается применять свои навыки, полученные в боксерской секции спортклуба Динамо, — монотонно пробубнил гражданин начальник, испепеляя меня ненавидящим взглядом.
— Но как же я буду заниматься боксом? — спросил я недоуменно. — Ведь именно для «применения навыков» меня тренировал самый лучший Мастер бокса в стране.
— А он больше не тренер, а ты — не боксер. Вы оба уволены! Понятно?
— Да, конечно, — кивнул я, едва сдерживаясь, чтобы и папе не треснуть, как сыночку. — Как сынок?
— В больнице, — прохрипел заботливый отец. — У него сотрясение мозга.
— Сочувствую.
— Это вряд ли… — Глянул на заполненный мною бланк, подписал повестку и рыкнул: — Пока свободен.
У выхода из здания министерства меня ожидал Мастер.
— Вас тоже уволили? — спросил я понуро.
— Не дождутся! — выпалил он, улыбнувшись. — Меня уже в ЦСКА взяли, с повышением, буду тренировать армейскую сборную.
— А как же я?
— Твоя карьера боксера, Платон, кажется, завершилась. Но как хорошо — нокаутом! Юра твой тоже, как выиграл первый бой, так и его попросили с вещами на выход. Зато боевые навыки — на всю оставшуюся жизнь.
Года через два Юра пригласил меня на чемпионат страны — хоть мне и нравился бокс, но участвовать в боях в качестве зрителя не любил. Там и встретились с Мастером. Он взял мое предплечье в стальной захват и спросил:
— Тебя в милицию больше не вызывали?
— Нет, а зачем? Боксом не занимаюсь, навыки не применяю…
— А меня еще трижды допрашивали. Только новое спортивное начальство заступилось — видишь, вырастил чемпиона страны.
— Не понимаю, почему вызывали?
— Парнишка тот, которого ты нокаутировал, пролежал в больнице с полгода, потом в санатории. Ну там, сотрясение мозга – ерунда, но твой удар в зону сердца, видимо, спровоцировал микроинфаркт. А через два года после боя с тобой у него оторвался тромб, и он в больнице скончался. Конечно, сам виноват — диету не соблюдал, тренировался так себе, лениво. У него этих тромбов было — по всему телу. Тромбоз! Ему вообще боксировать нельзя было. Но там такой папа, что многим жизнь испортить может. Так что поставь свечку за упокой Владимира — так парнишку звали. А что еще…
Итак, я убийца. И неважно, что Вова был при жизни больным и капризным, не важно, кто у него папа. Главное в этой беде — мой смертельный удар, и то, что я убийца. Господи, помилуй и прости!
Мальчишки играют войну
Войска собирает
«Зарница» –
Военная наша
игра.
БДХ п/у В. С. Попова
С тех пор в моей жизни всё не просто так. Вот и сейчас, еду, лечу, несусь на поезде, теряясь в догадках, отгоняя помыслы, мешающие сосредоточиться на главном. Один из них твердит: «Видишь, как весело проводят время соседи по вагону, подсядь к ним, выпей, закуси, и тебе повеселей станет»; другой, тихо так шепчет: «Сейчас самое время кое-что вспомнить, давай, друг, погрузись в себя, поройся в запасниках памяти — точно, что-то найдешь полезное». Пить-закусывать не пошел, зато погрузился… куда?.. в себя, конечно, в «запасники», так сказать.
Иногда, оглядываясь назад, кажется, что моё детство было не таким уж безоблачным, как хочется, как рассказываю близким. Чем дальше уходит время начала жизни, тем ярче всплывают ощущения холода, пронизывающего каждый день. Это страх получить двойку в школе, получить перелом позвоночника на тренировке, страх смерти родителей, после чего сироты попадают в детский дом — об этом мрачном заведении рассказывали такие ужасные вещи, после которых тюрьма покажется курортом. Страх сковывал меня с ног до головы, холодными цепями — не всегда, но гораздо чаще, чем хотелось.
Вот почему я хотел освободиться от противного чувства, накатывающего на меня, — будто стою босиком на снегу, а мороз сковывает мое тщедушное голое тело, по которому хлещет колючий ветер, вот почему мечтал о душевном комфорте, в тепле и уюте.
Может поэтому мальчишки сбивались в стаи, которые взрослые называли презрительно «бандами», хоть ничего криминального мы не делали и даже не помышляли. Видимо, нам требовалось чувство спины друга.
Вот и потянуло меня в чертоги детства, в места, где «чувство спины друга» достигало наиболее приятных значений. Словно за руку привел меня невидимый путеводитель в гущу лесной чащобы, где с времен войны сохранились оборонительные сооружения. К войне готовились очень серьезно. Окопы, ДОТы, даже спустя десятилетия, внушали ощущение солидной несокрушимости. Среди сооружений оборонительного комплекса мы подобрали для своих военных утех самое глубокое и обширное. На глубине трех метров, под железобетонным покрытием мы обнаружили целый подземный замок. Стальная ударопрочная дверь, как ни странно, после очистки от мусора, открылась довольно просто и почти без скрипа. За дверью луч фонарика высветил горы мусора и цепочку комнат, уходящих во тьму. В результате ударного труда, нам удалось очистить от мусора только две самые близкие к выходу. Их-то мы и стали использовать для военных игр.
Впрочем, дальние комнаты, заваленные мусором, нет-нет, да звали к себе, рисуя в нашем воображении штабеля ящиков с боеприпасами, аккуратные пирамиды автоматов и даже пушки, упирающиеся стволами в щели метровой глубины, закрытые бронированными дверцами — это чтобы откинуть заслонку и сразу открыть огонь по окружающему наших героев противнику. На стенах очищенных от мусора комнат нам удалось прочитать надписи: «Проверено. Мин нет!» Как ни высматривали такие же надписи в соседних комнатах, не обнаружили. Это сильно настораживало. Много раз пытались и там убрать мусор — интересно же, что там? Но каждый раз среди нас находился мудрый товарищ, который глубокомысленно изрекал: «Опасно! Это вам не за мороженым в ларек бегать — это отголоски войны. Там могут быть мины — а это уже не шутки!» И мы благоразумно останавливались.
В нашей военной команде был самый маленький мальчик по имени Сёма. Он больше всех старался подбить нас на продолжение «поисковых работ». Ему зачем-то нужно было во что бы то ни стало найти автомат с патронами и спрятать «на случай начала боевых действий». Однажды мы пришли после уроков в наш ДОТ и обнаружили перед входом кучу мусора, а внутри Сёмку, который, обливаясь потом, с громким кряхтением, вовсю ковырял слежавшийся мусор в соседней комнате, третьей по счету. Наш командир, самый старший из нас, по имени Юрий, накричал на малого, надавал подзатыльников, да еще запретил появляться на глаза в течение месяца. Сёмка обиделся до слез, убежал, выкрикивая угрозы, мы же, помолчав для солидности, приступили к разработке военной операции по нападению на вражеский контингент соседней школы, что за горкой, на берегу реки устроили себе подобный штаб, чуть меньших размеров.
Не прошло и трех недель, как в мою дверь постучал Сёмка и сообщил, что сегодня ночью они переезжают в другой город.
— Ну что поделать, — произнес я с трагизмом в голосе, — счастливого пути!
— Ты мне друг или кто? — вскричал самый маленький боец нашего военного отряда.
— Ну, друг, и что? — спросил я, чувствуя неладное. Его настырность иногда удивляла.
— Я тебе подарю кляссер с марками, теми, которые тебе понравились. Ну, африканские, американские — помнишь?
— И что я должен сделать? — всё более настораживаясь, спросил я.
— А еще, еще в придачу, — подпрыгивал Сёмка от возбуждения, — подарю тебе старинную лупу, позолоченную.
— Я что, должен кого-нибудь убить за это? — криво усмехнулся я.
— Да нет, только пусти меня в ДОТ. Мне осталось метра два прокопать до стены. Там точно, в нише автоматы есть! Ну и ты себе парочку ППШ возьмешь, да еще патронов ящик! Пойми, сегодня ночью я уезжаю, все равно никто не узнает.
Он протянул мне толстый кляссер с марками, полистал перед моим носом для большей убедительности, достал из кармана позолоченную лупу и вложил в кармашек снаружи обложки. …И я сдался! Метнулся в свою комнату, закрыл марки в ящике стола, взял ключ от навесного замка двери ДОТа, и мы побежали в лес.
Сёмка сразу нырнул в третью комнату и сходу принялся долбить лопатой по спрессованной куче. Я включил свет, сел за штабной стол, развернул карту местности и принялся водить по маршруту наступления курвиметром. Мне Юра приказал просчитать по минутам время наступления. Увлекся, конечно, в моей голове прокручивался ход военных действий, блокнот покрылся метрами дистанций, расчетами скорости выдвижения и прочих серьезных офицерских дел.
…Вдруг в соседней комнате раздался хлопок взрыва, блеснуло пламя красного огня, дохнуло противным серным дымом. Я пытался крикнуть «Сёмка, ты живой?!», но горло сдавил спазм, и оттуда вырвался лишь хрип. От едкого дыма, от напавшего смертельного страха, как безумный, выскочил наружу и побежал домой.
Всю ночь не спал. Возбужденное воображение высвечивало картинки, одну ужасней другой — там всё было в крови и дыму. Я себя чувствовал предателем, убийцей, трусом. Чуть рассвело, побежал в лес, забрался в чащу, с грохочущим сердцем, на подгибающихся ногах, спустился по ступеням в ДОТ, открыл тяжелую дверь, включил свет — и ничего «такого» не обнаружил. На штабном столе покоились навесной замок с ключом, развернутая карта, на ней лежал курвиметр, блокнот с карандашом. Заглянул в третью комнату, посветил фонариком — ни Сёмки, ни его лопаты, ни следов ночного преступления — ничего! Неужели малого так разнесло взрывом на куски, неужели в пламени взрыва сгорел так качественно, что и пепла не осталось? На душе поселилась смертная тоска. Рассказать о происшествии бойцам? Идти на допрос в милицию? Идти с повинной к родителям убиенного малого? Что делать? Вдруг на пике отчаяния прошелестела фраза из телевизионного детектива: «Нет тела — нет дела!» И я трусливо ушел в себя.
Да, в том бою с вооруженными силами соседней школы, благодаря моим «офицерским» вычислениям, мы выиграли — в час «Ч» обошли противника с тыла и раньше на десять минут атаковали молниеносным ударом. Между прочим, я сказал, что перед отъездом в другой город ко мне заглядывал Сёмка, попрощался, да и уехал себе. Никого это сообщение не тронуло — малого недолюбливали, он как-то больше всех раздражал.
Был, правда, еще один эмоциональный всплеск. Писал как-то сочинение ко Дню победы. Включил магнитофон с записями Высоцкого, прослушал военные песни, вроде: «А в ответ — тишина, просто он не вернулся из боя», потом следом прозвучала песня о странном человеке, который всю жизнь выходил из дома через окно. Там были такие слова: «Я вышел в дверь, я вышел в дверь — и после этого в себе я не уверен!..» Так, обе эти фразы сплелись воедино, и я почувствовал себя одновременно тоскующим по тому, кто «не вернулся из боя» и неуверенным в себе. Наверное, с полгода я как бы со стороны наблюдал за собой, но ничего «такого», необычного не заметил. Наоборот, стал гораздо лучше учиться, в военных играх стал заместителем командира Юры, по сути, начальником штаба, за что от него получил похвалу и доверие на всю оставшуюся жизнь.
Со временем таинственное происшествие стало забываться, лишь иногда, нет-нет, да кольнёт сердце тоской, но с каждым месяцем, с каждым годом, всё реже и реже.
— Ну и что? К чему всё это?
— Еще не вечер. Скоро поймешь. А сейчас собирайся на выход.
Место, где теряют душу
Он предпринял «Путешествие на Восток»
и не вернулся.
Произошла с ним некая псевдо«метанойя»,
душу русскую он утратил.
В. Пригодич
«Время стоянки пять минут» — пропищало со стороны вокзала. Вышел из вагона, вдохнул свежий воздух с горьковатым привкусом торфа. На платформе ко мне подошел молодой человек субтильного телосложения. С поклоном поприветствовал, подхватил сумку и понес к лестнице. Здесь, на юге, держалась теплая погода, на клумбе весело подмигивали цветы. В автомобиле молчаливый юноша доставил меня до усадьбы, спрятанной в лесной глуши. Вход меня впечатлил — ворота Расёмон, в классическом, так сказать, виде: ярко красные, с летящими крыльями, резными столбами, в золотых иероглифах. У ворот стояла гейша в праздничном кимоно, кланялась в пояс и улыбалась белым личиком... А может, и не улыбалась вовсе — пойди, пойми, что на том нежном личике с узкими щелочками глаз.
— Добро пожаловать, дорогой гость моего хозяина! — произнесла японка на чистом русском языке. — Мой хозяин ждет вас в саду под сакурой. — Показала крошечной ручкой направление движения.
Пока я не прошел сквозь ворота Расёмон, водитель стоял у открытой двери автомобиля, и тоже в глубоком поклоне непрестанно следил за мной, не спуская с меня глаз. На скамейке под японской вишней неподвижно сидел человек в белом европейском костюме, глядя на золотых рыбок, плавающих в крошечном пруду, обложенном камнями. С горки, по плоским камням стекала струйка воды. Приняв правила игры, я также присел на лавочку и уставился на воду. Медленно оглянулся, рассмотрел экзотическую растительность, навалы камней, вычурные деревья, вслушался в задумчивое птичье щебетание. Неслышно подошла гейша, держа в кукольных ручках поднос с чашечкой, я пригубил, ощутив на языке знакомый вкус японской рисовой водки саке.
Наконец ожил хозяин, встал, обнял меня и сказал вместо приветствия:
— Ожидал тебя, друг. Но не только, чтобы с тобой выпить-закусить, а чтобы вместе съездить в город. Кто знает, может, если понравится, я тебе его подарю.
— Вообще-то я за деньгами приехал, — сказал я раздраженно. — Мы же договорились!
— Этот вопрос, считай, решен. На днях привезут всю сумму наличными. Отдашь, когда сможешь, то есть ровно через месяц.
— Спасибо! — выдохнул я облегченно. — Прости, Семен!
— Сем-сан, пожалуйста. Вот почему я хочу, чтобы ты хоть немного отдохнул и впитал в себя этот покой. — Он развел руками. — А то вы там, в городах совсем о душе не заботитесь. А она покоя хочет!
— Это да! — согласился я, со стыдом почувствовав себя суетливым торгашом семечек на колхозном рынке.
— Ну ладно, Платон, давай съездим на полчасика в город, а как вернемся, продолжим.
В автомобиле продолжилось молчание, только тихая музыка с журчащими переливами, да тихим птичьим лепетом продолжила расслабляющее воздействие. И это мне нравилось.
Город оказался весьма уютным, зеленым, изнеженным. Здешние южные люди отличались ленивым спокойствием. Они даже ходили как-то по-особому плавно, не размахивая руками, и говорили, как пели, растягивая слова. Едва качнув рукой, Семен остановил автомобиль, опустил стекло и жестом руки подозвал парня, лет двадцати. Тот нехотя оторвался от друзей и вразвалку подошел к нашему автомобилю.
— Передай своим, — полушепотом произнес Семен. — Даю время до двадцати двух уехать из города на расстояние не менее трехсот километров. Кто не выполнит мое указание, с полуночи будет подвергнут уничтожению. Всё, иди!
— Да кто ты такой, дядя! — лениво протянул местный бандит.
— Хозяин этого города, — произнес Семен, поднимая стекло.
Повторил почти незаметный жест рукой, автомобиль тронулся.
— Нравится тебе город? — спросил Семен. — На мой вкус, весьма симпатичный. Конечно, кое-что нужно еще подработать, но уже сейчас тут можно и работать, и отдыхать. — Он сверкнул глазами и спросил, как продавец в магазине джинсов: — Ну, что, берешь?
— Думаю, преждевременно, — сказал я ошеломленно. — Да и ты здесь еще не хозяин. По-моему, ты еще не избавился от прежних. Думаешь, они вот так запросто покинут хлебное место?
— Не сомневаюсь. — Он показал на ворота Расёмон. — А теперь предлагаю на время забыть о делах и предаться созерцанию красоты.
Прежде чем войти внутрь, мы переобулись в деревянные шлепанцы. Внутреннее убранство также выполнено в японском стиле: бумажные перегородки, маты-татами, низкий столик с вазочками и бутылочками, цветы в больших вазах. Звучала тихая музыка, похожая на шелест травы с журчанием воды и пением птиц. Гейша по имени Эрико усадила меня на татами, протянула чашечку саке, подвинула ко мне вазочки с лапшой, овощами, рыбой. Семен откинулся на подушки, хлебнул саке и зажмурил глаза.
— Ты даже не пытался узнать, что со мной произошло? — спросил он тихо.
— Что ты имеешь ввиду?
— Куда я делся после взрыва в третьей комнате ДОТа.
Вот почему всю дорогу сюда я вспоминал наши военные игры! Ничего себе! Маленький, но амбициозный Сёмка превратился в этого самурая Сем-сан, который присваивает и дарит целые города. Ну и что мне сейчас отвечать, если я все эти годы пытался забыть ту скверную историю.
— Задумался, — едва слышно произнес хозяин. — Значит, «малому» удалось заставить уважать себя? Хотя бы тебя, Платон.
— Так ты всё подстроил?
— Конечно. Сейчас мне стыдно в этом признаться, но тогда я очень сильно на вас обижался, особенно на тебя. Мне казалось, ты самый добрый и совестливый мальчик. Я считал тебя своим другом. Единственным другом. …А ты струсил, сбежал.
— Прости, именно так — струсил и сбежал, — кивнул я. — Но тебе не кажется, что ты поступил жестоко? Ведь мы были детьми. А для детей первое столкновение со смертью — это шок на всю жизнь. Особенно, если ребенок чувствует свою вину и причастность к беде.
— Да, возможно, это и была жестокость. Только посмотри на нас с тобой — мы уже способны выживать в этом жестоком мире. Значит, всё не зря! И да, прошу прощение за свой поступок!
— И ты меня прости! — Я даже привстал на своем татами, чувствуя важность момента.
— Только вот, что я должен тебе сказать… — Сем-сан задумчиво помолчал. — И деньги, и города, да и сама жизнь — всё это пустое. Ты читал кодекс самурая?
— Читал, — сказал я, криво усмехнувшись. — Я бы назвал эту книжицу «кодекс самоубийцы».
— Значит, ничего ты не понял. Именно смерть делает жизнь насыщенной и осмысленной. Готовность к смерти совершенствует человека. Красиво умереть — это великое счастье. Давай поступим следующим образом: ты прими ванну с травами, Эрико сделает тебе дивный массаж, уложит спать. Если будет желание, она же окажет услуги интимного свойства.
— Спасибо, не надо.
— Как хочешь. Давай, отдыхай, приходи в себя, вкуси покой.
Дурман
Я бежал по краюнирваны
песня ELMAN Нирвана
Ванна с волшебными травами, массаж гейши с не менее волшебным кремом — погрузили меня в то состояние, которое определяется словом «нирвана». Теплые струи подхватили мое полужидкое тело, и понесли разум в сияющие облака тающего отражения.
Во время очередного кризиса потерял почти все деньги. Мне понадобился крупный заём, чтобы поправить дела моей фирмы. Банки в такой услуге мне отказали — они сами падали один за другим, поэтому я решил обратиться к партнерам. Перебрал в памяти одного за другим, обратился к одному, другому, но неожиданно получил вежливый отказ. Ничего не оставалось, как попросить помощи у Семена по прозвищу Сем-сан.
Некогда он был обыкновенным бандитом, его уважали, не боялись, но остерегались, во всяком случае, конфликтовать. Семен ездил на солидных иномарках, одевался в черные дорогие костюмы, поверх джемпера под пиджаком носил толстую золотую цепь, обувь и парфюм предпочитал немецкие, разговаривал негромко и основательно, улыбался сдержанно, всегда был вежливо-ироничным — словом, производил приятное впечатление. Мы с ним, как говорится, раскланивались при встрече, с обязательной шуткой: «Саид, ты зачем убил моих людей?» — «Стреляли…» Внешне он походил на восточного мужчину — смуглая кожа, черные глаза и волосы — и еще что-то неуловимое, вроде утонченной свирепости или артистической томной сентиментальности. В дела друг друга мы не вникали, и не раз сидели в ресторане за соседними столиками, раза два или три обменивались ударами из-за женщины, но так, скорей для поддержания традиции, чем злобы ради — словом, наши отношения можно назвать вполне добрососедскими.
…Таким он был прежде, пока не занялся созданием сети японских ресторанов. К порученных делам он всегда относился основательно, поэтому, пока подчиненные готовили помещения поближе к центру города, пока бухгалтер оформлял кредиты и прочие документы, Семен отправился в Японию на стажировку.
Оттуда он вернулся, не то чтобы другим человеком, но иным — точно. Нельзя сказать, чтобы он очаровался философией буддистской нирваны, или природными изысками синтоизма, но для себя решил он так: возьмем внешнюю японскую оболочку, основу же духовную оставим нашу, православно-атеистическую. Самое главное, что понял Семен, чем проникся и стал уважать — приоритет духовности над телесностью, но советский агрессивный атеизм он отверг решительно и бесповоротно.
— Этот мальчик твой? — спросил Сем-сан, указывая пальцем на вошедшего.
— Ага, уже с месяц как, — кивнул я, чувствуя, как холодная гадюка заползает в мою гудящую грудь. Взглянул на «мальчика» и проскрипел: — Ты как здесь?
— Проследил за вами, — нагло улыбаясь, сказал он. — Решил помочь, так, на всякий случай.
Этот юноша из приличной семьи устроился к нам на фирму, когда у нас всё было в порядке. Закончил институт, поискал вакансию, но никто из нанимателей сотруднику без опыта работы предлагать приличную должность не спешил. За него попросил старый друг, его отец. Я со скрипом согласился. Поначалу парень производил впечатление скромного «ботаника», согласился работать за малые деньги, обещал учиться и учиться, как завещал… кто-то из их компании. Удачно провел небольшую одноразовую сделку, потом чуть крупнее — с тех пор его и понесло. Стал разговаривать с коллегами со снисходительной улыбкой, вроде бы вежливо, но с явным превосходством. Меня остерегался, иногда лебезил, но с тех пор, как нас ограбили, пытался произвести впечатление единственного работника, способного вывести фирму из кризиса. Сыпал идеями, одна другой безумней, быстро мне надоел, я пригрозил, если он не угомонится, уволю без выходного пособия. На время затих, видимо, затаил обиду, решив для себя выждать момент и показать себя во всей красе. И вот он здесь…
Видимо, чтобы произвести совсем уж сокрушительное впечатление, юноша выхватил огромный травматический пистолет Гранд Пауэр, который он с премии заказал в оружейном интернет-магазине. Сем-сан даже бровью не повел, только вздохнул.
— Я тебя предупреждал, что это место особого уединения? — сказал Сем-сан, глядя на меня исподлобья. — Я просил, чтобы никто кроме тебя не узнал о нем?
— Да, конечно, — кивнул я сокрушенно, предчувствуя беду.
— Тогда ничему не удивляйся, — произнес он шепотом, повернулся к Эрико и чуть заметно кивнул.
Дальше всё произошло буквально за две-три секунды. Гейша из складок кимоно выхватила короткий меч, сверкнуло на солнце лезвие — кисть руки, сжимавшая рукоятку пистолета, упала на мелкую щебенку. Еще мгновение — и вот уже ни руки, ни самого хозяина конечности, ни малейшей капли крови нет, лишь Эрико с неизменной очаровательной улыбкой на белом личике поклонилась хозяину и мелкими шажками удалилась в сторону ярко-красных ворот. В полной тишине щебетали птички, да журчал по плоским камням ручей прозрачной воды.
— Ну что ж, если инцидент исчерпан, — невозмутимо полушепотом произнес Сем-сан, — давай вернемся к нашим делам. Тебе деньги выдать наличными или перечислить на счет?
— Гм-гм, лучше, конечно, кэш, — просипел я, с трудом прокашлявшись. — А что я скажу отцу незадачливого супермена?
— А был ли мальчик? — философски изрек хозяин. — Не удивлюсь, если окажется, что он дома пьет чай с отцом и мачехой, живой и невредимый.
Трясущимися пальцами я набрал номер телефона старого друга. Он сразу ответил и спокойно поинтересовался, не натворил ли чего сынок, а то выглядит он испуганным и тихим. Я попросил передать трубку сыну, тот выхватил ее из рук отца и только сказал:
— Вы в порядке?
— А ты?
— Да, всё нормально.
— Ты держишь трубку телефона какой рукой?
— Правой, конечно! А что такое?
— Ничего… — сказал я и отключился, поднял глаза на хозяина. — И как у тебя всё так получается?
— Помнишь, моё кредо: приоритет духа над плотью.
— Научишь?
— Найди свой путь. Бог тебе поможет.
— Можно задать последний вопрос? — спросил я, заметив у ворот Расёмона миловидную гейшу. — Тебе удалось разобраться с теми ребятами, которые держали город в своих руках?
— Конечно, — полушепотом ответил Сен-сан. — Те, кто поумней, выехали в соседнюю область. А с самонадеянными глупцами разобралась Эрико. И даже тела утилизировала. Такая вот милая барышня. Надумаешь, только скажи «да» — и получишь город в подарок.
Раздался нарастающий треск вертолета, а вот и сама винтокрылая машина с блестящим пузырем кабины, дверь отъехала, пилот пригласил меня занять место рядом.
— А как же мой кэш? — тупо напомнил я о цели визита.
— В сейфе, в твоем кабинете. Счастливого пути! — Отвернулся, полюбовался игрой золотых рыбок в пруду и зашагал в сторону дома.
Увы, я не сумел вернуть деньги в срок, подвели партнеры. На следующее утро, следующее за днем возврата долга, ко мне домой пришла гейша Эрико. Одета на этот раз она была не в кимоно, а в деловой шелковый костюм.
— Сем-сан выражает своё искреннее сожаление, — пропела девушка приятным голоском.
Достала из сумочки катану Танто, выхватила из ножен, сверкнуло лезвие — и моя голова покатилась по полу. У меня перед глазами завертелись гейша с мечом в тонких руках, аккуратно заправленная постель, рисунок ковра, стол с компьютером, люстра, окно… Наконец, круговращение остановилось, сознание затуманилось, и я успокоился.
Из состояния нирваны меня вырвал звонок телефона. По мелодии узнал, что прорвался ко мне командир из моего военизированного детства — Юра. Он пропал невесть куда года полтора тому, на звонки не отвечал, а тут сам объявился. После «вещего сна» с гейшей-убийцей, самураем-самоубийцей, нахлынувшей тоской, обрадовался ему, как никогда.
— Платон, зря ты к Сёмке обратился — мутный он, как лужа с помойки.
— Ты же пропал, а у меня беда… — пытался оправдаться я.
— Я же обещал, что выручу тебя. Друг я тебе или кто!
— Друг, конечно, но ты не отвечал на звонки. Никто о тебе ничего не знает. Что мне оставалось?
— А я даже из-за океана наблюдал за тобой. Всё про тебя знаю. Тебе угрожали?
— Конечно! Обещали прикончить, если деньги не принесу.
— А после первой угрозы другие были?
— Вроде нет… — признался я, покопавшись в памяти. — Только совесть покоя не давала.
— Ну это, как говорится, лирика. А наезды отбил мой помощник, так что будь спокоен. А я, Платон, вернулся домой и решил продолжить наш бизнес. На более высоком уровне. Деньги есть, помаши Сёмке ручкой и возвращайся поскорей.
— А если он будет против?
— Кто? Малой, что ли! Да я ему как тогда, подзатыльник отвешу, он и заревет — потому что малой он и в Японии малой.
Не успел отключить телефон, в мою комнату вошел Сем-сан, как всегда, полушепотом произнес:
— Ладно, Платон, уезжай, если хочешь. Не скрою, мне жаль потерять такого друга… второй раз. Но если одумаешься, мои предложения всегда будут в силе. Автомобиль с шофером у ворот. Позавтракаешь в пути. Как раз успеешь на утренний экспресс, билет на твоё имя заказан. Прощай. …И прости, еще раз…
В салоне лимузина, окутанный ароматом кофе, ванилью булочек и журчащей музыкой, я завтракал и думал, почему сразу двоим олигархам понадобился именно сейчас, именно я, такой слабый, трусливый и ленивый бизнесмен. Как сказал бы великий и ужасный Винни Пух: «Это ж-ж-ж неспроста!»
Впрочем, стоит ли удивляться тому, что моя непутевая жизнь стала понемногу исправляться — каждый день, а иногда и каждый час, я прошу Спасителя моего вести меня по жизни за ручку, как отец малое дитя. Главное — это признать себя дитём и просить.
Устроившись в купе в комфортном одиночестве, прилег на диван. Полистал планшет, нашел книгу Дневник офицера — я её всегда читаю при любом удобном случае. Тут и затрезвонил мой телефон.
— Платон, у тебя с собой костюм приличный есть? — излишне суетливо спросил командир Юра.
— Конечно, как положено в портпледе, костюм-тройка с чистой рубашкой.
— Тогда перед выходом из вагона оденься поприличней — у нас с тобой встреча с куратором. Я тебя встречу.
— По какому поводу, если не секрет?
— Он требует доложить всё, что ты знаешь о своей первой любови — Инессе Флорес. Пока едешь, вспомни все подробности. Кажется, у нее очень серьезные проблемы.
Настоящая книга
Листая старую тетрадь
Расстрелянного генерала
Игорь Тальков
Однажды ночью со мной случилось нечто фантастическое. Меня подхватил поток теплого ветра и бережно понес в неведомую светлую даль. С каждым ударом сердца, с каждым наплывающим и улетающим мгновением, во мне росло абсолютное доверие к теплому ветру, к той сверкающей дали, о которой ничего не знал, но даже приближение к волшебному свету приносило непередаваемое блаженство.
Однажды ночью я проживал момент счастья, источник которого лежал передо мной — и это была книга. Только вчера я перевернул последнюю страницу, но ощутив тягучее чувство потери, сегодня при первой же возможности вновь открыл первую страницу и погрузился в пространство, пронзающее всего меня лучами живого интереса.
Между вчерашней потерей и сегодняшним приобретением произошло еще одно событие, которое послужило причиной бессонной ночи — а когда еще можно предаться серьезным размышлением, если не в ночной тиши. Вот она до сих пор стоит рядом и смотрит своими серо-голубыми глазами прямо в глубину моего сердца. Ничего такого сверхъестественного в ней не наблюдалось, кроме разве внимательного взгляда и скромного поведения. Саша представил мне девочку, назвав Ириной, велел ей присесть на диван, пока мы закончим разговор. В ту минуту я как раз протягивал Саше книгу, умоляя позволить прочитать еще раз. Ира взглянула на обложку книги и произнесла слова, которые прозвучали затяжным громом на чистом небе:
— Как я тебя понимаю! Я тоже читала ее трижды, пока в голове что-то прояснилось. Это книга-загадка, не так ли?
— Ладно, читай сколько нужно, — милостиво согласился Саша, метнув на девочку взгляд, полный симпатии. — Пока вы будете обмениваться впечатлениями, пожалуй, сгоняю на кухню, поставлю кофейник.
— С тобой Саша тоже поделился своим открытием? — спросила Ира, отчего-то смутившись.
— Ты имеешь ввиду свержение с пьедестала классиков? …А на их место поставил всего-то десяток настоящих книг? Да, сначала я ему не поверил, но стоило почитать две, три из его тайного списка, как я совершенно согласился. Более того, именно из того секретного списка вот эта книга, которая меня просто поразила, перевернула, можно сказать.
— А ты пробовал что-либо узнавать о ней у книжников? Даже не пытайся, ничего не знают. Да и тираж ее мизерный…
— Я только закончил читать, и вот пришел продлить срок возврата. Саша очень серьезно относится к таким вещам. Как-то он потерял одну уникальную книгу — дал почитать, а книгу не вернули.
— Ну что же, его можно понять, — прошептала девочка. — Книги, по-моему, самое интересное, что есть в нашей жизни. Они не предадут…
В тот миг меня словно окатила волна уютной жалости к этой одинокой девочке. Ее одноклассницы, соседки по двору, родичи, наверное, не отличались дружеским отношением к непонятной девочке, живущей не так как они, а совсем в другом измерении.
— Знаешь, Ира, — сказал я в порыве, — давай поговорим о книге подробнее. Мне только нужно еще раз ее прожить. Первое прочтение только подняло волну острого интереса и множество вопросов.
— Давай, — неожиданно быстро согласилась девочка. — Только, мне кажется, и второе и третье прочтение вряд ли что-то прояснит. Такие книги читают не умом, а душой, а у нас эта сущность пока слабо развита.
— Тем более, нужно читать, чтобы развивать душу. А как еще?.. — Пожал я плечами.
С подносом в руках вернулся в комнату Саша. Он был необычайно серьезен. Мне даже показалось, что он ревнует, может Ира для него не только кузина, но тайная любовь. Девочка тоже как-то внезапно смутилась, и пальцы ее, взявшие чашку с кофе с подноса, подрагивали.
— Эй, вы чего? — улыбнулся Саша, протягивая каждому тарелку с печеньями. — Читайте мои тайные книги на здоровье! Для чего же я сделал открытие? И обсуждайте, и встречайтесь, если нужно, можете здесь, а можете в книжном кафе. Кто знает, может и мне поможете разгадать тайну моих тайных книг. Я ведь тоже только в начале пути.
— Прошу, Александр, — сказал я торжественно, — поделись, как тебе удалось разыскать эти книги в огромном количестве макулатуры?
— Отец зародил во мне сомнение в качестве тех книг, которые навязывают в школе. Потом как-то случайно на книжном развале у пьяницы за бесценок купил первую книгу, потом в букинистическом — вторую, отец привез из-за границы третью — и так далее. Было бы желание, а Бог даст всё что нужно.
— Ты не против, если мы с Ирой подружимся? — спросил я на кухне, куда мы перенесли опустошенный поднос.
— Наоборот — только за! — воскликнул Саша. — Ира хорошая девочка, воспитанная, аккуратная, добрая, но, как это часто бывает, одинока. А я буду только рад вашему общению, сам-то я занят настолько, что порой и минуты на досуг не бывает. Ты, вроде, посвободней. Нет у тебя двух спортивных секций, нет такого отца, который заваливает своими делами, нет обязанностей по дому, приготовления пищи. Так что — вперед! А Ира, на самом деле, хороший человек. Пройдет еще лет десять, и таких перестанут выпускать — фабрику закроют.
Из гостеприимного дома Саши мы уходили вдвоем. Ира доверчиво взяла меня под руку, подладилась к моему широкому шагу и приступила к своему рассказу:
— Я ведь читала с раннего детства, много книг перечитала. Но, вдруг однажды под Новый год подводила итоги — в нашей семье такая традиция. Перебрала в памяти прочитанные книги и вдруг поняла — ничего они мне не сказали. В душе пусто, в голове туман, а духовный голод только вырос и требует своего — смысла жизни. В тот новогодний праздник отец Саши пригласил нас в гости. Вообще-то он у него очень занятый человек, и обычные праздники воспринимает как помеху делу. Вот тогда-то, за праздничным столом, наши родители выпили, стали танцевать, смеяться, обсуждать свои взрослые дела, а мы с Сашей сбежали в его комнату. Там-то он и познакомил меня со своим открытием и с тайными книгами. Это было так интересно! Ты знаешь, как он умеет подать идеи — это как фокус, как дегустация шикарного блюда!.. Словом, ушла от них с книгой подмышкой. Проглотила за три дня! В душе осталось такое чувство… ну как на рассвете после бессонной ночи. Встает солнце, по земле разливается свет, небо светлеет, просыпаются птицы — и ты понимаешь, что впереди целая жизнь, полная чудес. Понимаешь?
— Да, конечно, — кивал я, понимая, что встретил родственную душу. Ира чувствовала, как я, думала о моем сокровенном, только выразить это словами у нее получалось гораздо лучше.
Когда мы остановились у двери подъезда дома, где жила девочка, мы оба почувствовали досаду.
— Как перечитаешь книгу, — прошептала Ира, — позвони, пожалуйста. Очень интересно, что ты скажешь.
— Обязательно! — выдохнул я.
— Сегодня мне было хорошо, — призналась она смущенно. — Спасибо тебе! До свиданья! — бросила она и скрылась за дверью.
Сколько нам было тогда — по десять, одиннадцать лет… Да, конечно, мы были «молодыми да ранними», еще в детском садике научились весьма бегло читать и писать. Правда, писали мы печатными буквами, поэтому школьные уроки каллиграфии стали для нас пыткой. Но как бы там ни было, к десяти годам мы стали начитанными детьми, а чтение книг для нас было едва ли ни главным занятием. Нет, конечно, увлекали нас и спорт, рыбалка, военные игры, кино, театр, путешествия — да мало ли что. Только книги все равно занимали первое место, может, потому что тексты впитывали отражения всех других увлечений, и даже вдохновляли на новые детские подвиги. По мере взросления нас всё меньше увлекали детские книги, а на так называемые взрослые, мы набрасывались, испытывая поистине духовный голод — нас не вполне устраивали те цели, за которые нам предлагали трудиться в поте лица, или даже умереть — слишком много народу загубили зря, слишком много людей ушли в небытие, так и не получив желаемое: свободу, равенство, братство. Да и со счастьем всё было не так просто, а если честно, то и вовсе никак — зато уж страх плодился и размножался в наших душах, растекаясь по поверхности страны, забираясь в каждую щель, низину, вершину.
Так чем же нас так заинтересовала та книга, и о чем она? То был Дневник белого офицера, служившего как в царской армии, так и в красной. Его убеждения, вера в Бога, ясный ум и, наверное, военное дворянское мужество — сделали его жизненный путь прямым, как стрела. Конечно, автора не обошли боли, страдания и ложь, но таинственная внутренняя сила позволяла сохранять уверенность и покой — это подкупало, это заставляло уважать каждое слово его книги. О, чего там только не было — цитаты из Библии, разбор военных сражений, любовь к женщине, поиски сокровищ, путешествия по всему миру, богословские споры с католиками и буддистами, молитва о спасении Святой Руси, даже технология изготовления офицерских сапог и психология приучения диких животных и атеистов…
Помнится, я с неделю каждый вечер и по ночам, как графоман, переписывал целые главы Дневника — и так увлекся, что законспектировал большую часть книги. Но только лишь закончив читать, перевернув последнюю страницу, я возвращался к началу и буквально впивался в текст.
Дитя Испании
Откуда
у хлопца
Испанская
грусть?
М. Светлов.
Гренада
Наши встречи с Ирой стали ежедневными, и Дневник офицера стал главной темой разговоров. Но Саша просил меня ввести девочку в мой круг общения, я и об этом не забывал. Конечно, наш двор не сравнить с её — у Иры площадка перед домом почти всегда пустовала, да и дом в два подъезда казался крошечным. А у нас — шесть домов составляли целую архитектурную композицию со скверами, бассейном, стадионом. Там имелись качели, карусели, столы для пинг-понга, сектор для прыжков в высоту и в длину, летний кинотеатр, роскошные дубы и липы для лазания по ветвям и тополя для стройности, клумбы с розами, палисады с кустами сирени, даже вход в бомбоубежище и лестница на крышу. Скучать в нашем дворе не приходилось, даже летом, когда многие разъезжались, всегда находилась компания для совместных игр.
Выполняя просьбу друга, я приглашал Иру к нам во двор, приучая к нашим приключениям. Странно, мальчишки приняли ее в свою компанию как-то уж очень быстро. Наверное, на них действовала красота Иры, ее ловкость, сила ног и рук, и даже бесстрашие — этому я и сам удивился: откуда у одинокой тихони из приличной семьи такие задатки дворового хулигана. Ира храбро стояла в воротах, бросаясь на самые лихие крученые удары в девятку и под ноги нападающего, ведущего мяч, сдирая до крови локти с коленками; как обезьяна лазала по деревьям и по крышам домов, бесстрашно спускалась в зловонное чрево бомбоубежища с крысами и трупами животных, забиралась на самую высокую рваную стену руин, оставшихся с войны. А однажды, услышала оскорбление в мой адрес, которое за спиной прошипел мой давнишний враг-завистник — и треснула его по скуле кулачком, да так качественно заехала, что тот неделю сидел дома с компрессом в пол-лица.
И это всё в девочке очень даже гармонично сочеталось с отличной учебой, бальными танцами и чтением серьезных книг. …И даже с именем — она по секрету поведала, что дед ее — из вывезенных в 1937-м испанских детей-сирот. Во время войны, в эвакуации в Ташкенте он повстречал такую же сиротку-испаночку, женился и родил её отца, который и дал нынешней Ирочке Цветковой испанское имя Инесса Флорес, что в переводе означает «святой цветок». Ну а со временем, когда ослабел интернационализм, а набрал силу национализм, она предпочла называться Ирой Цветковой.
Возможно, именно эта испанская составляющая её крови, и производила в ней такой мощный бурлёж. Разумеется, наши отношения вскоре переросли категорию дружескую и устремились к тому, что мальчишки называли «втюрился в девчонку» или «тили-тесто, жених и невеста». Мы стали чаще уединяться в парковых аллеях, читать стихи и томно вздыхать, глядя друг другу в глаза.
Разумеется, нашим любимым поэтом оказался Федерико Гарсиа Лорка, особенно «Сомнамбулический романс» (мы и сами были как сомнамбулы):
Любовь моя, цвет зеленый.
Зеленого ветра всплески.
Далекий парусник в море,
далекий конь в перелеске.
Ночами, по грудь в тумане,
она у перил сидела —
серебряный иней взгляда
и зелень волос и тела.
Любовь моя, цвет зеленый.
Лишь месяц цыганский выйдет,
весь мир с нее глаз не сводит —
и только она не видит.
А когда наши губы впервые соприкоснулись, она шепнула нечто таинственное:
— Осторожно, Платон, если это настоящее, ты уже с другой быть не сможешь — у нас это по женской линии родовое!
— Неужто, в роду колдуньи были?
— Вроде того… Что, испугался?
— Нет, конечно, но все-равно как-то стрёмно.
— Ну что, развод и девичья фамилия? — усмехнулась она.
— Не дождешься! — прошипел я и потащил ее в кусты. Она не сопротивлялась.
Пророчество моей «колдуньи» стало сбываться, когда я поступил в технический ВУЗ, а она в юридический. Уже на первой же картошке у меня состоялся роман с самой стильной красавицей группы по имени Лёля. Она вместе со всеми ползала по борозде, но в белой курточке и брала картофель пальчиками в белых перчатках. Но, увы, завершился роман к концу первого семестра — девушка оказалась вздорной пустышкой, с ней даже разговаривать было не о чем.
Под Новый год на балу первокурсника во дворце культуры меня на белый танец пригласила Ира. За полгода нашего расставания она стала еще краше и загадочней.
— Я же предупреждала тебя, — произнесла она заговорщицки.
— Ты «прачо»? — схохмил я, примерно представляя себе, о чем она говорит.
— У тебя еще будет сто таких Лёлей, но ничего серьезного с ними не выйдет. Я об этом, вот «прачо».
— Ладно, понял, — кивнул я, прижимая к себе точеную фигурку. — А ты куда пропала? Уж не для того ли, чтобы проверить свое пророчество?
— А я, Платончик, всегда была рядом, — прошептала она, восстанавливая приличную дистанцию. — И всё о тебе знала: с кем ты, как у вас и как долго. Я к тебе при-сма-три-ва-лась.
— Зачем?
— Надо же убедиться в правильности выбора.
— Убедилась?
— Еще нет, но уже близко.
— Хорошо, святой цветочек, продолжай, — улыбнулся я иронично. — А я продолжу свой выбор на сегодняшний вечер. Пока! — И ринулся к брюнетке, что посылала в мой адрес недвусмысленные взоры, бурча под нос: «тоже мне Инесса-принцесса, нашла себе лабораторную мышь, понимаешь!».
С той брюнеткой тоже ничего серьезного не получилось… Как и с другими из сакральной «сотни Лёль», что встречались на моём скользком непрямом пути. Бывали встречи, конечно, и с Ирой-Инессой, но моё отношение к ней утратило детскую простоту. Мне даже казалось, что я стал её остерегаться, во всяком случае, смотреть в ее бездонные голубые глаза не мог, а только бурчал под нос: «тоже мне, совесть моя больная, понимаешь!» А девушка едва заметно улыбалась, успокаивала меня и, напевая песенку Хампердинка «Блю-у-у спэниш айз» («Голубые испанские глаза»), уходила элегантной походкой чемпионки бальных танцев.
Среди земных
Её не всегда среди женщин
земных угадаешь,
Но если увидел, то глаз уже
не оторвать.
И дрогнет душа, потому что
ты даже не знаешь,
Чего и когда можешь
ты от неё ожидать.
А. Добронравов
Однако случился ряд событий, перепахавших нашу вполне устойчивую жизнь. По стране прокатился разгром под шифром «перестройка». Закрывались заводы и фабрики, народ как раньше на работу, принялся ходить на митинги и демонстрации. В воздухе носились шальные ветры свободы, только вот пользовались ею лишь криминальные бизнесмены, сумевшие не только наворовать вдоволь, но и защитить капиталы с помощью огнестрельного оружия.
Моя работа по распределению после института завершилась развалом конторы. Начальство, закрывшись в кабинетах управления и ближайшего ресторана, поделили между собой собственность учреждения, буквально за полгода переквалифицировались из верных детей Ильича в самых что ни на есть жадных и беспринципных капиталистов. Нас с Юрой и всех наших друзей, воинов лесного ДОТа, сократили. Нам ничего не оставалось, как создать свое частное предприятие и начать самостоятельную деятельность в условиях государственного хаоса. Юра обзавелся огнестрельным оружием, укомплектовал собственную службу безопасности.
В качестве «свадебного генерала» позвал майора госбезопасности, человека со связями в силовых структурах, бесстрашного и жутко принципиального. Его самого, как и нас, сократили, как и мы, он продолжил службу родине на невидимом фронте нелегальной разведки, подключая друзей-однополчан к операциям по нейтрализации врагов народа и особо озверевших бандитов. Майор, к тому же, благодаря связям с силовиками, загрузил нас весьма прибыльным бизнесом по поиску и продаже цветных металлов. Ему удалось обнаружить горы цветмета на военных базах, складах и полигонах. Он только настоял на том, чтобы мы не забывали делиться с военными нашими доходами, а то им сейчас приходится туго. Потом наш майор, служивший в Афганистане, наладил связи с бывшими сослуживцами, вступил в Союз ветеранов Афгана — а тут от руководства страны пришли весьма приличные бонусы ветеранам. Так, нам удалось поучаствовать в безакцизной торговлей спиртным и баночным пивом, мясом и сухим молоком. Заработали мы немалый первичный капитал, но самое главное — наш авторитет в деловых кругах стал прочным и непробиваемым. Нашу службу безопасности уважали как бандиты, так и насквозь продажная милиция.
Тут и нашлась Ира-Инесса, пропавшая с глаз долой во время нашей войны за выживание.
— Послушай, послушай, Иррр! Меня все эти годы не оставляла тайна той нашей книги.
— Офицерского дневника, что ли? — фыркнула она.
— Да, да! И только сейчас что-то прояснилось. Почему сейчас? Потому, что время у нас пришло такое, примерно, как у того офицера — переломное. Что больше всего подкупает в книге? Спокойствие! Это у него от веры! Он знает причины, начало и конец — а это дает силы не удивляться последствиям, какими бы трагическими они не были. Оглянись вокруг — всюду бандиты, воры, мошенники, коррумпированные силовики. Все как у того офицера, все как в гражданскую войну и позже. Он все это знает, он видит — но нет истерик, тоски, трагизма, отчаяния — ничего такого. Он спокоен, потому что верит! Ты обратила внимание, как легко по памяти он цитирует Библию, жития и предания Святых отцов, философов, военных, историю, психологию? Для него это — классика, это сама жизнь. Он в безбрежном море знаний — не утопающий, а капитан корабля. Потому что верит!
— Ну и что? Мне-то что до того офицера и его книги? — Она обожгла меня злым холодным взглядом. — Понимаешь, Платон, выросла я из тех игрушек. Детство наше прошло, улетело за горизонт и больше никогда не вернется. Всё! И книжки наши превратились в труху и валяются на помойке, потому что никому не нужны. Наша проклятая жизнь — это не книжечки, а борьба за выживание. Или тебя сотрут в порошок, или ты их. Так что я выбираю вот это: я сама стану волчицей, сама буду грызть, кусаться и рвать на части врагов! А ты как хочешь…
— Как же ты ошибаешься, святая цветочная клумба! — произнес я, с трудом преодолевая желание ударить её, предавшую наше детство, всё самое светлое, что у нас было. Но вспомнил богословский спор офицера с католиком и атеистом. Его, по нашим нынешним привычкам, могло вынести на ураган обвинений, да что там — оскорблений с рукоприкладством и стрельбой из нагана от пояса — но господин офицер оставался спокойным и доброжелательным, он оставался поистине господином положения. …И я осекся, успокоился и нашел силы сказать: — Прости, Ирочка, прости, пожалуйста. Прощай, я, пожалуй, пойду.
Потом была ВДНХ — Ира сидела за столом в полупустом гулком павильоне. Такая маленькая и беззащитная в огромном помещении, где в дальнем углу под слоем пыли валялись символы прежних достижений прежней страны. Будучи тогда директором фирмы, подписал заранее согласованный договор, уступил место следующему соискателю в дорогом костюме и подсел к столу, за которым сидела она в унизительном ожидании. Ира выглядела растерянной, она не знала, как себя вести со мной — видимо, дела ее шли не вполне так, как она предполагала. А вместо волчицы я видел перед собой растерянного щенка. Наконец, она выбрала стиль общения со мной, на всякий случай, огрызнулась, еще больше напоминая испуганного волчонка.
— Что, дружок, выбился в акулы капитализма?
— И тебе всяческих благ, — прошептал я, чтобы мой голос не разнесся эхом по циклопическому пространству. — Ты здесь работаешь?
— Нет, курьером в маленькой фирмушке. Принесла документы на подпись, да вот разные крутые дядьки вперед очереди лезут и лезут.
— Прости, но прежде чем здесь появиться, мы две недели обговаривали детали договора. А точное время в минутах мне назначили сегодня утром, предупредив, чтобы не опаздывал. Они только начали раскручиваться, но им удалось урвать жирный кусок от госпирога, вот и распродают по низким ценам, пока бандиты не отняли. Думаю, недолго им жировать, не тот уровень. Так что наш договор, скорей всего, на разовую сделку.
— Так ты открыл свою фирму?
— Не я, а мы — это все те же воины лесного ДОТа. Ввиду того, что мало кто вписался в перестройку, но очень много мошенников и бандитов, мы работаем самостоятельно, тесной компанией. — И упреждая возможную просьбу, продолжая смирять агрессивную гордость волчицы, резанул: — Девчонок не берем.
— Да я и не собиралась проситься… Больно надо! — ощерилась будущая хищница.
— Но, если нужны деньги, могу одолжить, на первое время. Немного, но на полгода проживания в Испании у родителей хватит.
— Ты меня за нищенку принимаешь!
— Ага, — кивнул я, окинув быстрым оценивающим взглядом поношенную одежду и небрежный макияж.
— Да иди ты!
— Иду, — сказал я, поднимаясь. — Но предложение остается в силе… скажем, еще месяц. И вот что напоследок, Ира, — я за тобой слежу, имей ввиду. И пропасть тебе не позволю — я отцу твоему обещал.
— Да идите вы, вместе с папочкой!
Потом была Профсоюзная — на этой улице обосновались несколько крупных бандитских формирований, которые отмывали грязные деньги, делая легальный бизнес. В этом имелся некий циничный подтекст, в народе «профсоюзами» называли бандитские группировки. Мы с командиром Юрой и начальником службы безопасности майором пришли туда по поводу наезда на нас одной из банд. Пока силовики по обе стороны баррикады вели дежурную перестрелку, пока только словами, я смотрел на девушку. Она пыталась что-то объяснить директору бандитской фирмы по поставке стекла, туповатому дядьке с золотой цепью на бычьей шее, а тот мычал и кивал, будто что-то понимал. Горестно вздохнув, девушка решилась на откровение:
— Понимаете, если к вам нагрянет проверка, я сотру диск с засекреченной информацией, где все наши сделки налом. А на компе останется только легальный баланс, который мы сдаем в инспекцию. Понимаете?
— Угу! — обрадованно загудел бандит. — Так бы сразу и сказала! А то «кредит-бедит», «штрафы», «пеньки» какие-то… Ты мне по-простому скажи: этого мочить — этого не трогать, а эту свою лажу мути сама.
Девушка распрямилась, улыбнулась, оглянулась — и я узнал изрядно похудевшую Иру, но в шикарном кашемировом костюме и золотыми часами на запястье.
— Слышь, Вася, — раздался хриплый голос нашего визави, бригадира боевиков. — Я не знаю кого ты собрался мочить сегодня, только этих пацанов не тронь, мы всё порешали.
— Ладно, пусть живут, — вяло отозвался «директор стекольщиков».
Мы встали из-за стола и неспешно пошли на выход: в таких местах двигаться надо как можно медленней, а то одно резкое движение — и нервные вооруженные ребятки изрешетят тебя... Не всем удавалось выйти из таких заведений своими ногами.
— Кстати, Васенька имеет привычку, — шепнул Юра, — прежде чем убить, изрядно помучить несчастную жертву. Врагу не пожелаю попасть в его лапы.
Последнее, что я заметил, и что весьма огорчило — торжествующий взгляд Иры: мол, видишь, я и сама справилась, я тут своя!
Дальше — больше… До меня дошла информация, что практически всех бандитов с Профсоюзной перестреляли. Наш особист хмыкнул:
— Кстати, не без нашей помощи!
У меня ёкнуло в груди, я спросил майора:
— Помнишь, девушку-бухгалтера у стекольщиков? Она деревянному по пояс Васе объясняла, как вести двойную бухгалтерию?
— Ты про Волчицу, что ли?
— Зачем так ее назвал? — спросил я, почувствовав спазм в горле.
— А ты не знаешь? — улыбнулся старый вояка, разгладив морщины прокопченного порохом лица. — Эта милая барышня всех и сдала! От нас на стрелке был только Юрка, но ему хватило ума не соваться в пекло, в стороне остался. В назначенное время Волчица сбежала из офиса, понаехали не меньше сотни стрелков из «подольских курсантов» — всех аккуратно положили. Ну, ты знаешь их методы — сначала стреляют, потом думают… А на место прежних заступила Волчица — практически подмяла под себя всю Профсоюзную. Только она всё сделала по-хитрому — наняла зиц-председателя Фукса с профессиональной командой, заключила договор с подольской крышей, а сама стала кукловодом у этих марионеток. А еще прошла инфа, что она завела роман с зам-начальника Отдела по борьбе с орг-преступностью — это я от него же и узнал. Понимаешь, влюбился полковник в ее синие глаза, а она ему на шею присела и только головой его вертит, в трех местах простреленной. Так что не волнуйся на ее счет — она еще и нас попытается подмять… Только я на всякий случай, в генпрокуратуре договорился — чуть рыпнется девушка, тамошний наш человек ее лет на двадцать закроет, уж я ему такого компромата подбросил — пальчики оближешь. А ты, Платон, чего это о ней забеспокоился?
— Ира — моя первая любовь, — прохрипел я. — Ее родители выехали на ПМЖ в Испанию, на родину предков. Я отцу её обещал защитить, прикрыть дочку, в случае чего.
— Ох, парень! — нахмурился старый солдат. — Такая девчушка сама кого хочешь защитит и прикроет. Это, слышь, такая новая генерация подросла — волки с волчицами. И что характерно, ничего не боятся, ломят напропалую — и при этом с вежливой улыбкой, мол, ничего личного, на войне как на войне.
— Майор, что узнаешь про Иру, ты мне, пожалуйста, рассказывай.
— Да уж расскажу, если такое дело!.. Но, если честно, шансов у нас с тобой никаких.
— Это я уже сам решу, что делать, и сколько у меня шансов.
— Ладно, понял… Буду держать в курсе.
С тяжелым сердцем брёл по улице, мимо пронеслась кавалькада черных автомобилей с затемненными стеклами. «Самоубийцы!» — промелькнуло в голове. На миг почудилось, что за приспущенным затемненным стеклом «шестисотого» мелькнули синие глаза Иры, её открытая улыбка. Что ж, вполне возможно… И тут я чуть не упал — мои ноги запнулись о высокую ступень входа в церковь. Это неспроста, промычал я под нос и зашел под старинные своды. Выстоял очередь к священнику, подошел и сразу бухнул:
— У меня подруга погибает! Что мне делать?
— Ну, во-первых, исповедуй свои грехи, чтобы Господь тебя услышал. А потом закажи сорокоуст и еще неплохо обойти три монастыря и заказать длительные поминовения.
— Исповедаться? Я не знаю как!
Усталый седой священник склонил ко мне голову, дыхнул уютным таким перегарчиком и стал задавать наводящие вопросы: «убивал?», «воровал?», «блудил?». Я под грохот сердца отвечал на вопросы, все больше чувствуя себя закоренелым преступником. Наконец, допрос закончился, я почувствовал облегчение. Батюшка, вдруг ставший мне почти родным, накрыл золотой лентой мою повинную голову, которую и меч не сечет, прочитал разрешительную молитву. Поздравил с первой исповедью, но сразу прибавил:
— А теперь подготовься к генеральной исповеди за всю жизнь и приходи в субботу вечером. А пока закажи у нас сорокоуст и обойди монастыри. Глядишь, Господь и тебя и твою подругу помилует и покроет вас от всякого зла.
Всё я тогда сделал, как велел священник… Ну, почти всё. Уже на следующий день наш майор сообщил, что на Иру совершено покушение, но она выжила, лежит в кремлевской больнице. Сейчас к ней никого не впускают, но как только «доступ к телу» разрешат, он сообщит. Дальше пошла серия новостей о переделе рынка и наши задачи на ближайшее время. Я втянулся в заботы по выживанию, и про субботнюю генеральную исповедь забыл.
Иру навестил через неделю. После круиза по монастырям острая боль за нее растаяла, уступив место совершенно иррациональной уверенности, что с ней отныне всё будет хорошо, как надо. Ира лежала на специальной кровати с подъемом, вся в бинтах, гипсе и трубочках, но улыбалась так светло, как в детстве. Она рассказала, как в ее палату заглянул священник, предложил исповедаться, причастил её.
— А ночью приснился сон, в котором я видела тебя, Платош, — сказал она, улыбаясь, — твои посещения церквей, и еще — только не смейся! — видела ангела, который буквально за ручку водил тебя от храма в храм и подсказывал, к кому подойти и что в записке написать.
Ира меня поблагодарила и, неожиданно сквозь улыбку всхлипнула, и пообещала завязать с волчьим прошлым и стать «хорошей послушной девочкой». А на прощанье притянула меня к себе и на ухо выпалила:
— И все-таки мне удалось кое-что заработать. Понял, Платон? Теперь уже не ты, а я могу содержать тебя хоть до конца жизни.
— Давай про это позже поговорим, ладно?
— …До конца нашей совместной жизни, понял!
— Да понял я тебя, понял! Только должна и ты кое-что понять, наконец. Ну ладно, если не терпится, слушай: мы с Юрой работаем не для заработка денег любыми средствами. Для нас это такая же потребность, как есть и пить, дышать и молиться. Мы просим Бога нас устроить, как Ему это кажется правильным, а наше дело — найти волю Божию и следовать ей до конца.
— Это ты понял, когда по церквям с ангелом под ручку ходил? — улыбнулась она.
— Скорей всего, когда мы с тобой читали Дневник офицера. А сейчас, во время нынешних трагических событий, мне довелось на практике удостовериться в правоте слов Офицера. Да и тебе тоже, как мне кажется.
— Ладно, иди, Платоша, устала я. У меня теперь много времени и опыта, чтобы подумать обо всем.
— …И помолиться, просто, как больной ребенок просит маму родную. Помнишь, как учил нас Офицер?
— Да, помолиться, конечно. Как же многому нам еще предстоит научиться! Спасибо тебе. Большое спасибо!
Часть 2. Ломая молнии полет
Опережающее ли моё отражение?
Утратив способность опережать события,
т. е. способность к направленному
опережающему отражению,
живая система перестает быть живой.
Акад. П. К. Анохин
Как хорошо, что Юра позвонил и предложил извлечь из недр памяти воспоминания о моей испанской Ире и вовсе не моей, чужой Волчице. Как хорошо, что под убаюкивающий стук колес меня не тянет в сон — видимо, до сих пор действует бодрящее свойство мази от чаровницы Эрико, но уж лучше «отпусти меня чудо-трава». Не без труда вернувшись из туманных миражей памяти, я обнаружил плотно исписанный грехами листок записной книжки, ставший с некоторых пор хартией генеральной исповеди.
— Твои проделки? — спросил я невидимого собеседника.
— Не без моей помощи, конечно, но всё твоё, — был ответ. — А ты чем-то недоволен?
— Да нет, всё нормально, спасибо, — смутился я. — Если у тебя такое хорошее настроение, помоги разобраться в механизме так называемых отражений. Там всё такое запутанное…
— Может, таинственное, мистическое — то, чего ты боишься?
— Боюсь я только одного — с тобой с ума свихнуться!
— Это ты зря, я не позволю тебе сбежать с передовой.
— Ну ладно, расскажи, кто ты и откуда, а то может, с тобой и общаться вредно.
— Как говорится, доверяй, но проверяй? Тогда слушай:
«Пожалуй, впервые об этом заговорил блаженный Августин: в своем самом известном апологетическом труде «О граде Божием» он сообщает о милосердии Бога, собирающего род человеческий «в восстановление и восполнение падшей части ангелов». В книге о христианской вере, адресованной Лаврентию, епископ Иппонийский также пишет, что «человечество, погибавшее во грехах и бедствиях, как наследственных, так и собственных, должно было по мере своего восстановления в прежнем состоянии восполнить убыль в сонме ангелов, образовавшуюся со времени диавольского разорения».
Эту же тему поднимал святитель Григорий Двоеслов. В отличие от Августина он считал, что число ангелов и святых в Божием граде будет равным: «…высшее оное гражданство состоит из Ангелов и человеков, и, по нашему мнению, в него взойдет столько рода человеческого, сколько там осталось избранных Ангелов». Это мнение святитель основывал на греческом переводе Второзакония 32:8: Когда Всевышний давал уделы народам и расселял сынов человеческих, тогда поставил пределы народов по числу Ангелов Божиих». И потому в Небесный град «взойдет такое множество людей, какое множество осталось Ангелов».
Далее эту тему развил Ансельм Кентерберийский. В трактате «Почему Бог стал человеком» он рассуждает о причинах замещения падших ангелов «существами человеческой природы»; размышляет, были ли ангелы созданы совершенным числом или оно было неполным; задумывается о том, могут ли люди испытывать радость от падения ангелов, ведь оно освободило для них места; вслед за святителем Григорием Двоесловом разбирает мнение, «что число-де избранных людей следует принять равным числу добрых ангелов». И, наконец, делает важное замечание: «…даже если бы ни один из ангелов не погиб, у людей было бы свое место в небесном граде». Правда, это замечание он никак не развивает, видимо, чтобы не оспаривать авторитетного мнения блаженного Августина.
Такую же идею мы встречаем и у представителя Восточной Церкви – преподобного Анастасия Синаита: «…святые отцы говорят, что когда число праведных мужей достигнет числа падших ангелов и горний мир наполнится [ими], тогда и произойдет скончание [века сего]». Очевидно, что игумен монастыря святой великомученицы Екатерины ссылается на западных отцов – блаженного Августина и Григория Великого.
Через творения западнохристианских авторов эта мысль проникает и в русскую книжность. Так, Симеон Полоцкий в «Венце веры» пишет: «Яко селици спасутся человеци, елици ниспадоша Аггли». Впрочем, в русской книжности первое упоминание о замещении падших ангелов праведниками встречается в «Слове о небесных силах», приписываемом святителю Кириллу II, епископу Ростовскому († 1262).
Из авторов, близких к нам по времени, эту мысль мы видим у преподобного Варсонофия Оптинского: «…сотворенные духи не все сохранили верность Богу; треть отпала от своего Создателя, и из благих они сделались злыми, из светлых – мрачными. Чтобы возместить потерю, сотворен был человек. Теперь люди, работающие Богу, по кончине своей вступают в лик Ангелов и, смотря по заслугам, становятся или просто Ангелами, или Архангелами и т.д. Этот видимый мир будет стоять до тех пор, пока будет пополняться их число, а тогда — конец»; у святого праведного Иоанна Кронштадтского: «Мы приглашаемся в сообщество Херувимов, Серафимов, Престолов, Господств, Ангелов и Архангелов — вместо отпадших, возгордившихся духов».
— Ну что, прояснилась мистика момента?
— Благодарю за познавательную лекцию, мой ангел. …Только что это? Меня опять куда-то выносит. Ты со мной?
— Да куда же я денусь!
Курсор памяти вздрогнул и откатился на полгода назад.
Однажды ночью ожидал на платформе прибытия поезда. Сначала появился свет прожектора, потом раздался тревожный гудок, и только после этих предупреждений об опасности появился головной локомотив, тащивший следом двадцать вагонов. Устроившись на верхней полке купе, включил ночник, и так как спать не хотелось, открыл наобум журнал, купленный на вокзале. На глаза попалась статья академика Анохина на тему «Опережающее отражение». Ну, думаю, пробегусь по заумной галиматье, тут меня в сон и потянет.
Академик, написавший доклад на столь мистическую тему, работал в атеистические времена, поэтому изо всех сил пришлось выкручиваться, чтобы не прозвучали слова «пророчество» или «предвидение», имеющие в своей сути нечто божественное, провиденциальное. А ему нужно было как-то обосновать возможность долгосрочного планирования успехов промышленности и сельского хозяйства. Вот, напустив тьму научных терминов, напрочь запутав прямо скажем туповатых малообразованных чиновников, он и придумал такое словосочетание — «опережающее отражение».
Только что машинист поезда показал мне эффективность силы света и звука, а ведь если имеется источник энергии, то должно быть и отражение. Иначе, как узнать, не стоит ли кто на путях, не пересекает ли зазевавшийся водитель автобуса переезд — тут и человеческих жертв не избежать. Поэтому машинист зорким оком и высматривает отражение от препятствия, чтобы в случае чего, предупредить тревожным сигналом, в крайнем случае, остановить поезд.
Вместо желанного сна под стук колес, в усталом мозгу головы родилась цепочка ассоциаций. С детства дорога возбуждала во мне интерес к новым местам, незнакомым людям — к приключениям и открытиям, которые обязательно должны случиться. Наверное поэтому, собственная жизнь представлялась мне путь-дорогой от рождения до кончины.
Когда священник пробежал подслеповатыми глазами в толстых очках по моей хартии — списку грехов, которые я совершил за отчетный период, — он лишь хмыкнул и проворчал:
— Не могу допустить к Причастию, ты не готов. Эта бумажка, — тряхнул он моим листочком, — курам на смех. Приготовься к исповеди за всю жизнь с семилетнего возраста, день за днем перебери дела, слова и даже помыслы. Всё аккуратно запиши. А чтобы свои преступления, которые за грех не почитаешь, увидеть в полной мере, попостись, помолись: «Дай, Господи, зрети прегрешения моя!» Как приготовишься, придешь ко мне, и мы с тобой еще раз приступим к таинству исповеди. Если увижу, что поработал над собой, тогда получишь епитимию, отработаешь ее, и только после таковых трудов, допущу до Причастия.
Униженный и оскорбленный, отошел тогда от аналоя, глянул на очередь причастников — они стояли, скрестив руки на груди, устремив глаза на царские врата, откуда с минуту на минуту священник вынесет золотую чашу со святыми дарами — почувствовал укол зависти. Открыл записную книжку и записал: «зависть». Вспомнил, сколько времени оторвал от бизнеса, какую кучу денег потратил на билеты и милостыню, пожалел зря потраченное и записал: «жадность». Глянул на батюшку, прогнавшего меня — он слушал вполуха исповедующуюся бабку, с иронической улыбкой наблюдая за мной, и я записал: «обида». Так и положил начало… Как там в Покаянном каноне Андрея Критского: «Откуду начну плакати окаяннаго моего жития деяний? кое ли положу начало, Христе, нынешнему рыданию?..» — лучше и не скажешь.
С тех пор так и курсирую по петляющей линии моего жизненного пути, туда и обратно, со всеми остановками. Ловлю отражения, только не опережающие, а догоняющие, тающие, сокрытые. И ведь, что еще приметил — корень преступления, совершенного в тридцать лет, откапываю в восьмилетнем возрасте, а последствия эхом разносятся по всему жизненному пути. Непрестанная молитва «Дай, Господи, зрети прегрешения моя», какой бы простенькой она ни казалась, делает свое дело, вытаскивает из темной глубины сознания на поверхность одну мерзость за другой. Со мной всегда мой невидимый собеседник — ангел-хранитель, небесный заступник, ангел покаяния — называю по-разному. Он не дает успокоиться, махнуть рукой на самое главное дело, «единое на потребу». Правда, разговаривает он со мной не красивым ангельским гласом, который однажды слышал в Шамордино, а моим же надтреснутым, неблагозвучным, иногда грозным, иной раз насмешливым — именно таким, какой я понимаю, ввиду своей непреходящей тупости.
— Ну и сколько еще ползать взад-вперед по моему очень жизненному пути?
— Сколько нужно, столько и будешь ползать, не велика персона.
— А я с ума, ненароком, не свихнусь? Особенно, с таким проводником…
— Вот заладил! Это было бы слишком просто. «Свихнувшиеся» боли не знают, страдания им неведомы. Они под защитой, как больной зуб в новокаиновой блокаде. Ишь чего захотел! А ты помучайся в каноническом масштабе, поскрипи зубами, тогда может быть и не придется гореть в аду.
— А ты, часом, не садист? Что-то подсказывает, не дождаться от тебя ни любви, ни сочувствия.
— Это ввиду твоей дремучести. Если бы я не изливал на тебя потоки любви, давно бы уж в бездну канул.
— Ой, ну ладно, ладно, хватит пугать. Давай, начнем следующий круиз по моей непутевой житухе. Поехали!
— Как прикажете, гражданин начальник.
Одинокая волчица
Когда её лёд перед сердцем горячим растает
Забудет она своего одиночества боль
А.
Добронравов. Волчица
Поезд медленно подкатил к перрону, я выглянул в окно, нос к носу столкнулся с бесстрастной физиономией Юры, он кивнул. Еще раз убедившись, что костюм на мне сидит прилично, подтянул галстук и вышел из вагона, поблагодарив проводницу. Юра жестом указал на лимузин Чайка, вплотную причаленный к перрону. Мы забрались в салон на задние сиденья, я поприветствовал незнакомого шофера. Чувствуя, как меня распирает от накопившихся вопросов к другу, задал первый: «Куда теперь?» и замолк, увидев, как Юра поднял палец, достал свой навороченный телефон и нажал кнопку.
— Теперь можно, — разрешил он, — нас никто не слушает.
— Так открой секрет, куда ты пропал?
— Как тебе известно, мне поручили участие в опрокидывании банка, который финансировал криминал. Я согласился потому, что там были наши деньги. Первое, что я успел сделать, перевел наши миллионы в надежный банк. Пока занимался спасением родных капиталов, обнаружил, что этим же занимаются еще трое мужичков. До меня дошло, что произошла утечка, и пока контора выясняла кто предатель, я заблокировал все операции банка. А потом узнал, что за день до нашей операции в УБОП ушла крупная сумма. Ну, думаю, молодцы ребята, подсуетились, значит мы вместе — и про это забыл. Потом услали меня в командировку по заграницам, я возвращал домой деньги, ушедшие из банка-банкрота. Разумеется, как водится, традиционную десятину я не забывал перечислять на наш счет, так что мы теперь в шоколаде, кризис нам только на пользу.
— А что, позвонить мне и как-то предупредить сложно было?
— В том-то и дело, что операция была настолько засекречена, что я и пикнуть не смел. Ты уж прости, конечно, но меня оправдывает то, что я поручил майору отражать возможные нападки на тебя. Видишь сам, тебе только раз угрожали, да и то старый вояка съездил к тем горячим парням и «уговорил» тебя не трогать. А знаешь, сколько банков, сколько фирм ликвидировано! А сколько нашего брата, бизнесмена устранили! Бандиты как с цепи сорвались, трясли должников, аж пух и перья летели. Тебя же это не коснулось. — Он посмотрел на меня внимательно. — …Или коснулось?
— Да как сказать, — почесал я висок. — На меня такое отчаяние накатило, что я стал подумывать об отставке, окончательной и безоговорочной.
— Ну, Платон, ты это зря! — прогудел Юра. — А как же наше дело! Как наши люди, которых мы кормим! Когда это мы с тобой сдавались! Нет, брат, ты это брось!
— А вот послушай, — зашептал ему на ухо, поглядывая на незнакомого водителя, который уже наворачивал второй круг по кольцу. — Подо мной живет сосед Федя. Иногда заглядывает в гости, мы чай пьем, он с аппетитом поглощает все, что ему ни предложишь: пирожные, бутерброды, омлет, борщ — всё ест, аж за ушами трещит. И вовсе не потому, что бедный или обжора — нет! — просто нормальный здоровый мужик, во всех отношениях. Всегда улыбается, всем доволен, спокоен, как танк.
— Может, он того?.. — Юра покрутил пальцем у виска.
— Я же говорю: здоровый мужик, в том числе и психически. Когда ты пропал, он как-то зашел ко мне, а я ему обрадовался и говорю: Федя, возьми меня к себе, в твое счастливое сегодня. Он кивнул, доел борщ, кусочком хлеба промокнул тарелку, вылизал ложку и говорит: завтра пойдем ко мне на завод, я тебя устрою. Будешь работать простым работягой и сразу успокоишься, а то на тебя в последнее время смотреть жалко, дерганый какой-то, глаза вон красные, спишь, поди, плохо.
— И что? — Дернулся Юра всем телом. — Потопал с блаженным на завод?
— Да, потопал. А что такого!
— Еще раз прости, Платоша! — Хлопнул меня по колену. — Не думал, что так тебя огорчил. Я этого нашего майора, старого хрыча, квартальной премии лишу! Что же он не мог тебя успокоить, обнадежить как-то! Ну, выпить с тобой в каком-нибудь кабачке, в конце концов.
— По-моему, наш старый вояка меня побаивается, — прошептал я, снова с подозрением глядя в аккуратно постриженный затылок водителя. — Да и не любитель он по ресторанам жизнь прожигать.
— Все равно, накажу, чтобы страх не потерял. Ну и что, пошел на завод, а дальше?
— Сразу влился в рабочий коллектив. Поставили к тискам, сунули напильник, выдали задание — петли на шкаф ваять. Помнишь, Юрия Никулина в кино «Когда деревья были большими»: «А руки-то помнят!» Вспомни, как мы в школе на уроках труда напильниками петли на парты делали? Так и я, с таким удовольствием резал, сверлил, снимал миллиметры, полировал! На ладонях пузыри вскочили, пот ручьем, а я ничего не замечаю, только заготовка перед глазами — и восторг щенячий. Потом пригляделся к трудовому народу и вот что обнаружил — таких как я больше половины. Кто разорился, кто спился, кого жена бросила — а завод подобрал и, как в песне поется: «Та заводская проходная, что в люди вывела меня». Это что! Через неделю мне доверили токарный станок — вот уж где я получил истинное удовольствие! Знаешь, Юра, за многие годы я впервые себя человеком почувствовал!
— И чем все закончилось? — усмехнулся Юра, искоса глядя на меня.
— Да вот, закончилось, — вздохнул я. — Подошел ко мне начальник цеха с кадровиком за спиной и, пряча глаза, сказал: пойдем со мной, поговорить надо. Я вымыл руки, переоделся и зашел в кабинет. Начальник цеха рассматривал мою трудовую книжку и усмехался: «Ты, я смотрю, птица высокого полета, зарабатывал поди тысячи долларов, так что давай-ка возвращайся в прежнюю обеспеченную жизнь. Сейчас, понимаешь, кризис, у нас целая очередь безработных, а для тебя это вроде развлечения. Так что давай, мужик, получи расчет — и на выход!»
— Правильно он тебя на место поставил! Нечего у рабочего класса хлеб отнимать! — сказал Юра, потирая ладони. — Ладно, не стану старика-майора в угол ставить. Это ведь он с директором побеседовал, да еще денег заводу подбросил, чтобы пережили кризис с минимальными потерями.
— Спасибо, конечно, за трогательную заботу, — прохрипел я обиженно. — Только все-равно я благодарен и Феде, и заводу, и тем работягам, с которыми бок о бок вкалывал до седьмого пота. Я даже спать стал как убитый, аппетит как у Феди прорезался, на ладонях мозоли вот наросли — жизнь наладилась.
В ту минуту очень хотелось рассказать еще об одном событии. Но что-то меня остановило, уж слишком обстановка не соответствовала…
Там на заводе имелась прекрасная столовая. Веселые толстые тетки в белоснежных халатах кормили нас недорогими блюдами, приготовленными по-домашнему, как родным. Культовый гороховый суп, например, фирменный тушеный с мясом картофель и салат из помидоров с огурцами, сдобренный подсолнечным маслом, отжатым из жаренных семечек — запомнил на всю жизнь. В каком бы дорогом престижном ресторане я не заказывал подобные блюда, нигде того доброго домашнего вкуса повторить шеф-поварам не удалось.
Кроме насыщения трудового народа столовая ко всему прочему стала стихийным клубом по интересам. Мы собирались за длинными столами, не спеша ели, не забывая обсуждать новости. Со временем удалось выявить в народной среде так называемых неформалов — демократов, диссидентов, либералов. Причем, среди таковых «тихих экстремистов» были как инженеры, конструкторы, так и рядовые слесари, токари, разнорабочие. Обсуждение новостей продолжалось во внутреннем дворике, где мы прогуливались вокруг дымящейся курилки по крошечному скверу — здесь смеялись, фонтанировали шутками, а порой доходило и до слез.
Там я познакомился с одним очень интересным парнем по имени Сергей. Он, как и многие, потерпел крушение в семейной жизни, стал выпивать, жена подозрительно скоро нашла ему замену из числа расплодившихся «новых русских», разменяла трехкомнатную квартиру на две однушки. В его холостяцкую берлогу в гости после смены мы иногда забредали, и там продолжались дискуссии, разумеется, с дешевым портвейном и чисто номинальной закуской. Нам на заводе выдавали праздничные заказы, в состав которых кроме дефицитной тушенки, масла, майонеза, сервелата «давали в нагрузку» консервы кильки в томатном соусе, шпротный паштет и рыбные тефтели, которые на семейный стол выставлять было неудобно, а за холостяцким столом пришлись к месту, и съедались за обе щеки, особенно если из них сооружались бутерброды, а сверху Серега-эстет небрежно набрасывал веточку укропа или петрушки. Под разговоры о политике, с вином и самодельными бутерами зарождалась крепкая мужская дружба.
Мне почему-то было приятно осознавать, что и в пролетарской среде оказалось немало «продвинутых» ребят, с которыми всегда было что обсудить. А однажды в гости к Сереже заглянул весьма странный, скажем так, нетипичный господин — крепко выпивший, бородатый, но вежливый, в приличном костюме, с дорогим виски в портфеле, по имени Палыч. Слегка пригубив свой сверхдефицитный напиток, он встал и начал нараспев читать стихи — свои вперемежку с Бродским, Волошиным и Ахматовой. По завершении поэтического вечера, мы с Сергеем провожали Палыча до стоянки такси. Как-то само собой вышло, что мы втроем на такси, не желая прерывать столь торжественный вечер, доехали до панельной девятиэтажки в Ясенево, обнявшись вышли из таксомотора и оказались дома у поэта, где пили дивный английский чай с овсяными печеньями, подаваемые на качающийся древний стол с вытертой до дыр клеенкой очаровательной супругой Тамарой, которую мы сходу окрестили «Царицей Тамарой». Убедившись, что мужчины «сыты, пьяны и нос а табаке», она тут же, в углу кухни развернула складной мольберт, укрепила на нем грунтованный картон и за час-полтора написала наш групповой портрет, разумеется, в стиле позднего импрессионизма. Наши довольные лица художница изобразила сине-желто-зелеными красками — необычно, но вполне узнаваемо. Палыч «угостил» общество порцией своих стихов, а под занавес удивил поэтической импровизацией с участием всех присутствующих лиц. Сергей сделал открытие — следующий день «чисслучайно» оказался выходным, поэтому решили продолжить творческую встречу на даче, куда Палыч пригласил своего верного друга Джека.
Дальше был переезд на микроавтобусе в крошечный дачный поселок, купание в пруду, костер, приготовление бараньей ноги на углях — и все это под чтение стихов, споры о политике и крепкий сон в гамаке, на газоне в туристических спальных мешках. А утром пили крепкий чай, а Джек раскрыл страшную тайну — они с Палычем «только что откинулись» из мест заключения, где отбывали срок за антисоветчину и религиозную пропаганду. Как большинство дембелей и освободившихся зеков, устраиваться на работу, как все нормальные люди, они не собирались, зато с помощью «знакомых батьков» учредили собственную фирму по изданию религиозных книг, календарей, для чего они наладили поставку золота и серебра для крестиков и цепочек, что дает им большую часть прибыли. Нам с Сергеем предложили «участвовать налом» для увеличения оборотных средств. Основной задачей наши зеки определили помощь в восстановлении церквей. Сергей, сославшись на нищету, отказался, я же обещал подумать.
Всё это промелькнуло в моем сознании буквально за полминуты, но наружу не вышло.
— Ладно, хватит лирики, давай про дело говорить, — почти серьезно рубанул Юра.
— А мы что, так и будем по кольцу кружить? — удивился я. — Когда в контору-то поедем?
— Если мы не идем в контору, то контора придет к нам, — загадочно произнес друг. — Значит так. Помнишь, я сказал, что УБОП вывел свои деньги из рухнувшего банка? Дальше вот что было. Если помнишь, наша испанская Ирина с начальством управления завела роман. Потом через подставных лиц заключила договор на поставку самой дорогой новейшей спецтехники, оружия и автомобилей. Это она помогла вывести деньги, поэтому ей отказать не могли. Получила девушка аванс в половину суммы — а это миллиард, на секундочку, — да и пропала. Начальника, с которым провернула сделку, и своего подставного директора — отправила в бега. То ли заграницу, то ли под землю — неизвестно, только исчезли мужики. Не сегодня-завтра, мне подскажут, где она залегла на дно. Но что-то подсказывает, что она здесь, в глуши сидит и выжидает, когда всё рассосётся. Слышал, может, грядет мощная реорганизация. УБОП расформировали, людей передали в ФСБ и МВД, так что, видимо, Ирина надеется, что долги спишут, а она выйдет из болота сухой. Только на этот раз на нее очень сильно обиделись суровые ребята. Нам с тобой поставлена задача: найти, уговорить вернуть деньги, а если откажется сотрудничать — в расход.
— А я здесь причем? — воскликнул я. — Если подругу покушение не отрезвило — она тогда едва выжила, — то уж мои уговоры тем более не подействуют.
— И я так думал, пока мне не поставили одну песню. Между прочим, называется «Волчица» Александра Добронравова. — Он включил магнитолу. — Вот послушай.
Просто одинокая волчица,
Не любого может полюбить.
Словно неприступная царица,
Не купить нельзя её, не приручить.
— Вот сейчас, слушай! — воскликнул Юра.
Когда её лёд перед сердцем горячим
растает
Забудет она своего одиночества боль.
Забудет знакомую роль, что так долго играет,
Как будто воскреснет и снова поверит в любовь.
— Теперь понял?
— Уточни…
— Отдать Ирку
на растерзание нашим крутым ребятам — дело недоброе, жестокое, да и
бесполезное. Чему наша волчица научилась, так это заметать следы и прятать
деньги. А если договоримся, то и миллиард вернем, и ей жизнь сохраним.
— Значит
считаешь, что моё сердце настолько горячее, что Ира забудет знакомую роль,
воскреснет и поверит снова в любовь?
— А ты так не
считаешь? — Юра вонзил в мою переносицу свой знаменитый лазерный взгляд.
— Я же тебе
только что рассказывал о моем желании уйти в отставку и зажить — пусть скромно
и даже бедно — но спокойно и мирно. Тебе не кажется, что наши игры с золотым
тельцом требуют слишком много человеческих жертв!
— На войне как
на войне! — резанул Юра, взмахнув рукой. — Не мы ее начали… И не забывай, что
от твоего решения зависит жизнь Ирины, благосостояние и безопасность тысяч
людей. Ну что? Твое слово!
В салоне
лимузина повисло молчание. Даже затылок водителя замер и ощетинился редкими
седыми волосками. В голове моей стояла удивительная тишина, ни одной мысли,
только желание быстрей покинуть это место, где два человека решают, кому жить,
а кому… не очень. Вдруг захрипел зуммер, Юра включил телефон, выслушал
сообщение, повернулся ко мне и на удивление мягко произнес:
— Санаторий
«Лесное озеро», ты вроде там лечился. Ира сейчас там. Едем?
— А что, к
куратору в контору мы разве не поедем? — спросил я ошеломленно.
— Да вот он, —
кивнул Юра в сторону водителя. Потом обратился к затылку: — Одобряешь? —
Последовал молчаливый кивок. Лица своего куратор так и не повернул.
Конспираторы, ёлки-палки!
Импульсы, зов,
колебания
В душе,
смирившей вожделенья,
Свершается
переворот.
Она любовью к
провиденью,
Любовью к ближнему живет.
И.Гете. Фауст
Вряд ли можно точно определить время перехода в новое состояние. С раннего детства до настоящего дня случались неожиданные импульсы — они били розгами, мягко проникали в душу, лаская тело, совершая в мозгу опьяняющее головокружение. Продолжалось это состояние минуту, день, неделю, но всегда таяло, исчезало, оставляя приятное впечатление. Меня словно звало невидимое существо, могучее, светлое и доброе, я же, то иногда шел за ним, а то вдруг сворачивал в сторону и убегал прочь, возвращаясь на привычную дорогу, ведущую в никуда. Но все-таки предчувствие перемен не покидало, а необходимость подспудно росла.
Пляж на Черном море к вечеру почти опустел. С намокшей циновки удалось переместиться на освободившийся топчан. Растянулся в полный рост, подставив тело розовеющим лучам заходящего солнца. Закинул руки за голову, под деревянным подголовником нащупал книгу по психологии, полистал. Запнулся на слове «эмпатия» и втянулся в чтение. Приём познания окружающих путем вживления в образ человека мне понравился. Я даже сравнил его с сочувствием или даже соболезнованием.
Полистал дальше, наткнулся на фразу для самовнушения «Я — солнце!», сразу потерял интерес и вернул книгу в нишу подголовника. Он, видите ли, солнце, ворчал я, а может ты денница, сын зари, грохнувшийся в ад и ставший по низвержению с небес злобным черным духом, который уже никогда не раскается, никогда не вернется к Отцу, изобильно одарившего архангела великой силой, позволившей созидать целые звездные миры, галактики, но вот возгордился, завопил на всю вселенную, мол, вознесу свой престол выше Божиего — и на тебе — архангел Михаил ударил мечом и отправил под землю. Так что лучше я буду представлять себя головешкой адской печи, отребьем человеческим — это смиряет, гасит гордыню и приближает человека к Богу. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать.
Это я к чему? Так ведь еду в поезде, ношусь туда-сюда по сокровенным линиям своего очень жизненного пути, по-прежнему исправляя ту самую генеральную исповедь, забракованную обыкновенным сельским батюшкой. Значит эмпатия — понять, чтобы простить… Что путь грядущий мне готовит?
Через несколько часов мне предстоит серьезный разговор с Ириной, а у меня в душе лишь раздражение и желание полного разрыва. Откуда такая злость? Ведь эта девочка была так нежна, так любима. Ну да, встала на путь стяжания, а я не встал?.. Мне еще предстоит выяснить, скольких мирных и криминальных граждан Юра с майором положили, чтобы заработать тот самый пресловутый начальный капитал, который лег в основу нашего процветания. Кто я такой, в самом деле, чтобы обвинять Ирину, в которой прорезалась ее испанская сущность, взыграла кровь конкистадоров, пиратов, покорителей народов. И это мне еще предстоит выяснить — какие в моих венах пульсируют крови, и нет ли в моем генотипе преступников, убийц, воров, еретиков.
Благая мысль, как уже не раз, возбудила во мне в молитву, погрузила в струи теплого медленного потока. Не досуг было исследовать, что за вода или воздух, откуда и куда — влечет меня таинственная река времени. Знал и верил в одно — покаяние от Бога, с помощью Бога и к Богу — поэтому не опасно, а наоборот, спасительно и созидательно. В сердце пульсирует Иисусова молитва, тело расслабленно, теплый поток мягко подхватил меня и унес в годы шальной юности.
— Опять не подготовился как следует, — проворчал старец. — Что значит «блудил», да «прелюбодействовал» — а ты на листок выпиши всех девчонок, с которыми блудил телесно, даже если только целовался или мечтал о них. Садись за стол в углу, вспомни имена и напиши на бумажке.
— Да разве всех припомню? Я уж половину имен забыл, давно было.
— А я тебе помогу.
— Чем же это!
— Молитвой, чем же еще. Иди, сынок, пиши.
Сел за стол, перекрестился и принялся вспоминать и записывать. Видимо, молитва старца произвела во мне нечто чудесное — из памяти стали всплывать женские имена, одно за другим. Исписал листок, подошел к батюшке, а он:
— Еще вспоминай, тут четырех не хватает.
Подошел к иконе Пресвятой Богородицы «Достойно есть», прочел молитву с таблички под иконой, вернулся за стол, закрыл глаза, погрузился во мрак, там что-то блеснуло, открыл глаза, написал еще четыре имени и с видом победителя подошел к старцу за похвалой, а он:
— Теперь иди к Распятию и с молитвой «Господи помилуй Таню, Ирину, Анну…» — за каждую из них положи земной поклон.
Последние поклоны дались неимоверно трудно, с болью в спине и коленях. В который раз подошел к старцу, а он:
— И так в течение сорока дней, да не забывай утреннее правило, молитву на сон грядущим и покаянный канон. Как все исполнишь, подойдешь, отпущу грехи, допущу к Причастию.
Ох, и ворчал я на старца! Ох, и болело мое тело, от пальцев ног до макушки! Но как закончил «блудные мытарства», как причастился — словно заново родился, будто солнце надо мной и не заходило, и такая радость нахлынула, такое счастье!..
Потом у старца еще один урок получил. На этот раз он заставил меня стоять на коленях перед иконой плачущего Спасителя, держащего на ладони окровавленное крошечное тельце ребенка, убиенного с помощью аборта.
— Разве я виноват в том, что женщины делали аборт!
— А разве они не от тебя беременели! Разве ты не соучаствовал в убийстве?
— Верно, батюшка, соучаствовал. Что делать?
— На молитве о упокоении каждый раз поминай младенцев, убиенных во чреве матери. Вряд ли твои блудные любовницы-убийцы станут за них молиться, а ведь детки в аду, они нуждаются в твоей молитве. Видишь, сам Спаситель плачет о них, так как же ты должен оплакивать!
Таким образом, до меня дошло, что и я убийца младенцев, и я блудник еще тот! А уж в том, что вор — несомненно. Ну нельзя зарабатывать деньги, не уходя от налогов. Как-то мы с Юрой подсчитали, если платить налоги в полном объеме, да еще прибавить сюда взятки, подарки, отстёжки — как раз получится, что надо отдать всю прибыль, да еще процентов двадцать-тридцать доплачивать сверху. А это откуда взять? Не с топором же, в самом деле, на большую дорогу выходить! Так что, увы, нас родное государство всех поголовно превратило в воров — и не смей лукавить, не смей оправдываться. В таком деле только милостыня «преобильная» защитит от гнева Божиего, да хоть немного оправдает.
Ну что, Платон, остался в душе хоть малейший повод раздражаться на Ирину? Или обижаться хоть на кого из ближних? Молчишь? Ну и молчи, только молитвы покаянной не прерывай. Нет у тебя другого пути спасения, как только каяться и — как в Покаянном каноне Андрей Критского:
«Откуда начну плакати окаяннаго моего жития деяний? Кое ли положу начало, Христе, нынешнему рыданию?»
Поток покаянной молитвы, теплый струящийся поток, пронизанный светом, сделал плавный вираж и вынес меня в солнечное утро давнего сентября.
Любовь №…
Как всё это
выразить словами,
Нету слов,
слова приходят сами,
Если любить,
если любить так.
Г.Шангин-Березовский. Если любить так
Мы опаздывали на лекции, двигались, шаркали толпой по институтскому дворику, пересекая каскад солнечных лучей. На секунду подумалось, блеснуло в голове, ослепило глаза: как же некстати, как несправедливо в последние теплые дни бабьего лета сидеть в сумраке душной аудитории, а не впитывать каждой клеточкой тела эти радужные лучи, такие светлые, теплые, последние. Толпа студентов катила волнами под входной портал, под которым начиналась черная тень, отсюда растекающаяся по лабиринтам коридоров, аудиторий, лабораторий.
Вдруг в мешанине лиц, плеч, спин, глаз — мелькнуло улыбчивое девичье лицо. Как заметил ее, не пойму, девушка шла метрах в трех справа, чуть впереди, она ничем не отличалась от многих других, да и наблюдал ее в суете, боковым зрением, но вот надо же такому случиться — запомнил, впечатал в память, принялся искать и нашел. С первой секунды необычного явления в голове мелькнула мысль: солнечная девочка. Такой она и осталась в памяти души моей — солнечной. Имя по счастливой случайности, тоже оказалось соответствующим — Светлана.
И что же дальше-то? Вроде бы, ничего особенного — нашел её и, как водится в студенческих кругах, исполнил роман, верней, дружбу с максимальной взаимной симпатией. Образ «солнечной девочки» отошел вглубь… души, памяти. Иногда ее милое личико снова и снова озарялось солнечным светом, но первое впечатление затерлось наплывающими мутными волнами суеты. Лишь однажды случилось сильное озарение, и виной тому было стечение обстоятельств — успешное завершение сессии, майское солнечное тепло, шальной заработок и еще вот это: мы со Светой встретились в ресторане, куда ее привели сокурсники, наверняка после долгих уговоров.
Поначалу, я просто с любопытством наблюдал, как она держит на дистанции парней, не позволяя даже прикоснуться к себе. Это ей удавалось делать в изящной манере, без грубости, безобидно, с приятной улыбкой на приятном лице. Но вот парни за ее столом начали пьянеть, психологические тормоза с каждой минутой слабели, да еще рок-группа из угла огромного зала посылала в эфир гудящего пространства настолько мощные аккорды, что усидеть в такой возбужденной атмосфере было невозможно — и она согласилась потанцевать «быстрый», конечно, в бесконтактном стиле. Так, в моей голове появилось несколько раздражительное определение, прилепившееся к слову «солнечная» — «недотрога».
Дело в том, что девушки, начиная с третьего курса, очень серьезно искали себе перспективных юношей для создания крепкой ячейки общества — семьи. Некоторые проявляли поистине изощренные методы, от «я ваша навеки» — до «по залёту», с привлечением судебных инстанций в ходе определения отцовства будущего ребенка. Меня это весьма удручало, участвовать в этой вакханалии не хотелось, поэтому держался от сокурсниц подальше, контактируя в основном с опытными женщинами на стороне. Может быть поэтому, наблюдать за Светой в тот вечер было захватывающе интересно — она вела себя не так, как сверстницы.
В течение моих наблюдений я и сам не отказывал себе ни в употреблении крепких напитков, ни в «медленном» танце, с томными касаниями разгоряченных тел — многие девушки только затем и посещали злачные заведения, чтобы подобрать себе партнера хоть на вечер, а лучше на месяцы — такое своего рода средство от одиночества, неприличного, в их нежном возрасте.
Итак, звучит на полную громкость искрометная «Хафанана», только не в исполнении африканца Африк Симона, а тощенького волосатого парнишки в богемно рваной джинсе, розового от натуги, успешно пародирующего залихватские движения негра. Особенно здорово у гитариста получаются ритмичные звуки, напоминающие выстрел из крупнокалиберного ружья по носорогу. Танцоры вокруг, потные и горячие, орущие и визжащие, в толкучке непроизвольно ударялись филейными частями, впрочем, многих это только забавляло… Как вдруг я получаю довольно ощутимый удар по вышеуказанной части своего тела, оборачиваюсь — а это недотрога Света замерла с прижатой к лицу рукой, вся красная от стыда и непривычного возбуждения. В голове пронеслась целая кавалькада пьяных выражений, из которых наружу вырвалось только одно: «Светик, приветик! Ну и по…темперамент у тебя… сегодня!» — а сам, гад такой, стал мысленно прокручивать отрывки из неприличного немецкого кино. «Ой, прости, прости, пожалуйста! Я не хотела!» — «Да что ты, всё нормально, успокойся!»
Потом танцевали «медленный», тогда звучала томная «Как всё это выразить словами, нету слов, слова приходят сами, если любить, если любить так..» Мы со Светой плыли, мы летели, едва касаясь подошвами паркета, под ненавидящие взгляды её сотрапезников, и в том танце девушка позволяла прижимать себя, не сопротивляясь, даже наоборот. Потом я провожал её домой. Над нами сверкали звезды, наши разгоряченные тела обвевал приятный ветерок, мы по очереди читали стихи и даже напевали песенки, шутили, смеялись. Но у своего подъезда Света уперлась руками в мою пылающую грудь и строго сказала: «Нет! Не трогай меня!» — и убежала, громко хлопнув дверью, как от насильника. Вернувшись в ресторан, под восхищенные вопли товарищей, продолжил участие в банкете — все-таки мы его заслужили ударным трудом, и все-таки мы были бесконечно молоды и безрассудны, а девушки за нашим столом были так прелестны и так доступны. Но еще неделю-другую на моей груди ожогами второй степени саднили удары от жестких кулачков Светы, а в ушах звучал её холодный крик «Не трогай меня!» Да ладно, больно надо, успокаивал себя, но не совсем успешно.
Потом была трудовая преддипломная практика, собственно диплом, сумасшедший аврал, гудящая тревога — а справлюсь ли я! Потом, нужно было готовиться к военным сборам, потом — до самой погрузки в автобусы мы предавались разгулу… А потом вдруг в мою комнату постучалась Света, смущенная, расхрабрившаяся, с пакетом в трясущихся руках, в которых обнаружилось марочное вино и закуски из ресторана. Предложение Светы меня не удивило — она была третьей в те сумасшедшие дни и ночи. Да и звучало это до какой-то степени по-деловому, несколько цинично, но вполне разумно: «Я уже не найду никого, лучше тебя. Я тебя люблю, ты знаешь. Никаких претензий к тебе, никах обязательств — мы расстанемся навсегда. Пожалуйста, подари мне ребеночка, чтобы он был похожим на тебя, таким же талантливым и красивым!»
Ну а дальше, все по отработанному ранее алгоритму — застолье, затихающая дрожь в руках девушки, медленный, очень медленный танец под магнитофон: «Как всё это выразить словами, нету слов, слова приходят сами, если любить, если любить так..» — полный контакт, без всяких там «не трогай меня», легкое разочарование, пустота в душе, смущенное бегство девушки и острое желание забыть «это недоразумение».
Потом война, стрельба, окопы, вручение офицерского билета — и на работу молодым специалистом. А там, на новом месте — всё новое: друзья, начальство, девушки, образ жизни, перманентное пьянство, нарастающее одиночество на миру, приступы отчаяния. И воспоминания о веселом студенчестве, уходящей молодости, и о Свете. Только солнечная девушка, недотрога, сумела так здорово скрыться от меня, настолько качественно замести следы — сколько не расспрашивал о ее судьбе, никто ничего сказать не мог. А жаль!.. Если бы на новом месте, в период отчаяния и тотального одиночества, в той разрухе, пьянстве, воровстве, пошлом сквернословии, грохоте раздолбанной техники, истеричных воплях начальства — вдруг как из сказки появилась бы Света… Я бы крикнул, что было сил: «Светлана, вернись, ты мне нужна, я задыхаюсь без твоего солнечного света, мне холодно и очень плохо! Господи, сделай же что-нибудь!» Пока мой крик раздавался эхом по вселенной, я ждал, всматривался вдаль, может, появится и спасет меня. Но не появилась. Девушка сдержала свое обещание расстаться навсегда. А жаль.
Как набат колокола, как взрыв из прошлого, прозвучал тихий вкрадчивый голос:
— Хочешь узнать, что случилось со Светланой?
— Нет! — чуть не закричал я, предчувствуя беду.
— И все-таки послушай. Поверь, это нужно узнать.
— Говори, — прохрипел я, почувствовав внутри холод смертной тоски. Видимо, действительно нужно, хотя бы для того, чтобы избавиться от гудящего страха.
— Светлана уехала в Сибирь на всесоюзную стройку. В первый же месяц в нее влюбился местный герой, всеобщий любимец, бригадир-орденоносец. Плечистый красавец, с голубыми глазами! Света призналась, что ждет ребенка. Беспечно махнув рукой, тот настоял на женитьбе, и они, пока живот не виден, сыграли свадьбу. И вроде бы все у них наладилось, получили хорошую квартиру, купили мебель, ковры, машину — все как у людей, только еще лучше. Только одна из воздыхательниц нашего героя труда, не поленилась сходить в роддом, узнала точный возраст ребенка, подсчитала на бумажке и громогласно, при всей бригаде, рассказала о том, что ребенок не его, что жена досталась ему уже беременной. Конечно, во время обвинительной речи члены бригады не сказали ни слова, кроме разве: «Тебе-то что? Не лезь в чужую жизнь!» Но слух о неверной жене быстро разлетелся по стройке, началась негласная травля, к которой подключились другие женщины, влюбленные в нашего героя. В лицо Свете смеялись, за спиной шушукались, дверь квартиры мазали битумом, даже собаки на нее стали рычать и лаять остервенело. Бригадир напивался, пьяным избивал жену, на сына отказывался смотреть и брать на руки. Света не выдержала позора, и с ребенком на руках уехала куда глаза глядят. Остановилась на берегу реки, последний раз поцеловала сына и в обнимку бросилась с моста в ледяную воду.
Я подавленно молчал. Передо мной реяло в лучах солнечного света улыбающееся лицо солнечной девушки. Слева звучали ругательства: «идиотка, самоубийца, непрощаемый грех, вечная погибель», справа раздавался тихий шепот: «тогда все были атеистами, Света стала жертвой неверия, которое приравнивается к сумасшествию, а значит грех прощаемый, ведь и за Цветаеву благословили молиться и записки подавать, молитва любви покрывает всё».
Последние слова вплелись в каскад солнечных лучей, подобно звукам, начертанным на нотах, меня осветила надежда, у меня появилась великая цель. Я лишь узнал имя младенца, и во мне зазвучала молитва, сквозь которую прорывался шепот: «слова приходят сами, если любить, если любить так...»
— Видишь, какая трагедия случилась бы со Светланой, если бы не твое обращение к Богу, — прозвучал голос в душе.
— А что, на самом деле произошло? — выпалил я, — …если без твоего «бы»? И еще — что-то не помню, чтобы я обращался к Богу.
— На самом деле… — он помолчал, наверное, чтобы я проникся каждым словом. — Мать с ребенком на руках стояла на мосту, в отчаянии смотрела на серую воду, от которой разило холодом вечной погибели. Именно в то мгновение на тебя напало острое желание встретить ее, вернуть в своё тупое одиночество. И ты закричал! Да так громко, с такой светлой любовью! И — да! — быть может, ты уже забыл, но ты, неверующий, достигший мрачного дна, произнес эти слова: «Господи, сделай же что-нибудь!» В ту же секунду на мосту появился некто, увидел мать с ребенком на руках, понял, что задумала она что-то очень плохое… Взял ее за руку и увел подальше от того моста, от серой воды, от страшных мыслей. Ему удалось успокоить Свету, обогреть, вселить надежду — и они поженились, Света родила еще двоих детей, и теперь у них вполне счастливая семья.
— «Слова приходят сами, если любить, если любить так…» — произнес я вполголоса. — Конечно! Именно любовь вложила в мою глотку спасительные слова: «Господи, сделай же что-нибудь!» И я завопил на всю огромную вселенную — и Господь услышал меня, и спас солнечную девочку.
— Да, именно так.
За облака
Жизнь отдавая друзьям и дорогам
ВИА Самоцветы. Там, за облаками
Перед выпускным вечером поспать по-человески так и не удалось. Терзали комары, залетевшие в форточку; сердце грохотало, как литерный экспресс на переездах, хотелось пить, бегал в туалет. Может поэтому сон, длившийся всю ночь, запомнился во всей мистической предсказательной силе. Мы чувствовали приближение великого перелома в судьбе страны, в наших личных судьбах. Обсуждали это в компаниях себе подобных, строя всевозможные гипотезы, одна страшней другой. Вопреки стараниям старших поколений трудящих, будущее не казалось нам светлым, полным надежд, и уж тем более ни в коммунизм, ни в мировую революцию мы точно не верили. Да и «новости из-за рубежа» по телевизору и в центральных газетах пестрели агрессивными происками НАТО, подготовкой к войне и сокрушительному вселенскому кризису. Наверное, все эти предзнаменования и спрессовались в тот бессонный сон, которому суждено было сбыться, в чем я впоследствии стану убеждаться не раз.
Мы остановились у роковой черты, больше схожей с государственной границей. Наши родители сразу оторвались от нас, детей, и остались по ту сторону, в постылом прошлом, или пересекли границу в прямом смысле слова, разъехавшись кто куда: земля обетованная, заокеанная, фатерланд, мадрепатрия... Дети остались дома, только дома наши сильно изменились, как и города, улицы и вся страна, а что еще более странно — рухнул социализм, так бережно охранявший нас от «тлетворного влияния запада». И мы, незрелые, инфантильные дети страны советов, оказались нос к носу с жестоким зверем — капитализмом в стадии накопления первичного капитала, то есть бандитизмом на государственном уровне.
Это сейчас становится понятным, с какой целью Господь провел нас, Своих детей, сквозь адский огонь искушений. Разумеется, лишь для того чтобы мы познали свою немощь, воззвали к Его всемогуществу и обрели веру. Только удалось это, увы, далеко не каждому.
Апокалиптическое «иди и виждь» несколько раз прозвучало тогда, в моем пророческом сновидении, а еще «не ужасайся, этому надлежит быть».
Итак, я оказался в сумрачном лесу, почти Дантовом, но все же чуть светлей. Солнце над головой то призывно сияло, то с печалью скрывалось за серыми облаками. Странен был тот лес и вовсе не походил на обычный, состоящий их привычных деревьев. Там были высокие железобетонные дома, парки, напоминающие уютные европейские кладбища; кусты из ощерившихся стволов, штыков и длинных ножей. Воздух, настоянный на хвое, наполняли моровые поветрия лжи, угроз и тонкой ядовитой лести. Мы брели по лесу, оглядываясь то с любопытством, то с печалью, мы жались друг к другу, укалывались о собственное недоверие и ожидание подвоха — и отстранялись. Кто-то держался, хотя бы на расстоянии, за коллектив, а кто-то отходил в сторону и скрывался в тени оврагов. Через несколько переходов появились первые жертвы, потом их число стало неудержимо расти.
Саша, мой любимый друг Саша, оставил родительский дом, прилепился к одинокой заботливой женщине, дождался ее отлучки в магазин и сгорел в новом деревянном доме. До последней секунды он с гибельным восторгом наблюдал за тем, как сгорают в огне бесценные «тайные книги», и хохотал, и рыдал, и падал в пропасть, гостеприимно открывшую бездонный зев. Заботливая женщина подошла к обугленным руинам, стояла, выронив сумки с продуктами, ошеломленно молчала и даже плакать не могла, нечем было, высохла от горя.
Ира, проводив родителей в Испанию, превратилась в оборотня, превращаясь по ночам в огромную волчицу. Я в страхе убегал от нее, а она гналась за мной, догоняла и кусала за ноги. Но из-за густого перелеска появлялся охотник, стрелял в воздух, выходило солнце, волчица скрывалась в тени, откуда появлялась вновь, в обычном человеческом виде. А я уползал в сторожку охотника, где он накладывал на мои раны бинты, пропитанные целебной мазью, и успокаивал, и укладывал спать на скрипучую кровать с настенным ковром из звериных шкур.
Семка-малый отбился от военного строя и подался в плохиши. Он объедался вареньем из бочек, печеньями из пачек, заплыл жиром и стал засыпать, не донеся ложку до рта. Между ним и складом сладостей бегала услужливая официантка, не забывая извлекать из кармана хозяина свои кровные чаевые.
Два закадычных друга — Серега-Воробей и Стас — стали завсегдатаями поэтических вечеров, которые из читательского кафе переместились в ресторан. Они наперебой читали стихи, восхищаясь своим талантом, пили шампанское, продолжали водкой и полировали вечер поэзии ликером. «И не надейся, друг, такие шикарные поэты как мы до пенсии не доживают. Наш удел сгорать свечой, освещая тьму презренного социума бликами свободы!» Их сердца остановились в один день, в один миг, именно за тем самым столом, и хоронили их в одной ограде на кладбище нереализованных талантов, только в траурной процессии участвовали лишь служители ритуального агентства и старенькие бабушки-соседки.
Самые красивые девочки из нашей школы — Лена, Женя и Соня — подались в эскорт, они обслуживали миллионеров, исполняя их самые изощренные прихоти. С тридцати годам стали похожи на киборгов из фантастических триллеров — наполовину состояли из инородных запчастей. Их некогда чудные глаза потухли, сердца окаменели.
Отличник и гордость школы, а потом и престижного института Боря взлетел до научных небес, посиял там, на пьедестале… Пока его не перекупили агенты спецслужбы очень зарубежной страны, а наши не арестовали и не посадили в тюрьму до конца жизни, за госизмену.
Юра стал блестящим предпринимателем. Ездил только на лимузинах, жил в загородном замке, питался в лучших ресторанах, его охранял целый полк спецназа. Только печален и одинок был мой друг, и ничего его не радовало. И в мою сторону он смотреть не хотел, что-то ему мешало…
На следующий день, после торжественного открытия выпускного вечера, вчерашние школьники сорвали с себя маски хороших мальчиков и девочек и принялись чудить. Сначала шампанское, потом водка, а потом и сомнительный портвейн — вся эта жуткая смесь пойла — превратила нормальных ребят в буйных психов. Помня ночной сон — он не оставлял меня ни на секунду — я лишь обозначал употребление спиртного, но и у меня кружилась голова от грохота музыки, сумасшедших танцев, обниманий-целований. Мы прощались с детством, с прежней заботливой страной, с собой прежними, дружественными, веселыми разгильдяями.
Я танцевал с красавицами Леной-Женей-Соней, любовался искрящимися глазами, чувствовал под своими ладонями их гибкие талии, мы смеялись, шутили — а я с трудом сдерживал слезы, так жалко мне было этих девочек, составлявших золотой генетический фонд народа. Они, наверное, тоже предчувствовали непростые времена, потому их смех был таким неестественно громким, глаза сверкали не столько от опьяняющего восторга накатившей взрослой свободы, а сколько от нежданных слез страха и обиды. Я чокался бокалами с поэтами Стасом и Серегой, терпеливо слушал стихи, только хвалить их совсем не хотелось, а только жалеть. Всегда трезвый и рассудительный отличник Боря вдруг впервые в жизни «напился пияным». Он лез ко всем без разбора с потными объятиями, уверяя каждого, что уж у кого как не у него, все в жизни будет отлично, и слава осияет его рано лысеющую главу, и они еще будут гордиться, что учились вместе с ним — а передо мной стояли картинки его унижений в тюрьме, когда буквально все зеки и охранники отнимали у него последние остатки человеческого достоинства.
Саша с Ириной старались держаться вместе, чтобы не пропасть в пучине всеобщего сумасшествия. Они приглашали меня в свой круг, также пили-смеялись, танцевали-обнимались, а я, подыгрывая им, радовался мгновениям дружбы, зная наперед, что жить ей осталось всего-то ничего. Подлетал к нам самый, пожалуй, сдержанный в радости Юра, обнимал нас, звенел бокалом, хлопал по плечам и спинам, внимательно глядел мне в глаза, будто чувствуя мое пророческое напряжение, но отгонял серьезные мысли и продолжал обход друзей, продолжал прощание с ними.
Наконец наступил час всеобщей усталости, мы высыпали гурьбой на улицы, площади и набережные, чтобы жадно напиться предрассветной свежести, чтобы громко заявить и свою причастность к всеобщему празднику. Рассвет всегда будил во мне самые оптимистические мысли, а тут в ликующей толпе одноклассников на меня то ли с небес, то ли из-за светлеющего горизонта — снизошли волны любви к этим людям. Я видел заблуждения каждого, их вопиющий самообман, мне открывалось их трагическое будущее — но ни осуждать их, ни тем более издеваться я не хотел. В тот миг просветления, когда и я становился взрослым ответственным человеком — мне остро захотелось прощать, оправдывать, любить их такими какие они есть и будут. И жалеть их как мать жалеет непослушных детей, и молиться за них, сколько есть сил. …Если мне дарована восстающая из руин вера, зарождающаяся в душе молитва. В тот миг я желал умереть за этих людей, понести самые страшные мучения, лишь бы они были прощены и помилованы, лишь бы с ними войти в небесное сообщество прощенных и спасенных.
За окном плыла, текла густая темная ночь. На душе стояла мрачная свинцовая тягота, причин которой вроде бы не наблюдалось, но он была и вполне властно тянула меня в черную бездну. Пытался молиться, но вместо незримого радостного пламени, достигающего небес, покрывался унылой копотью керосиновой лампы из тифозного барака. Я чувствовал себя распоследним человечишкой на всем белом, или черном как сейчас, свете, мысленно роптал, жалел себя, затаптывая душу в еще больший мрак.
Если в такой миг спросить, кто я, где нахожусь и «какое тысячелетие на дворе» — вряд ли смогу ответить, скорей всего погружусь в тяжелые раздумья, если вообще отреагирую на вопрос. …Потому что одновременно валялся на жестких нарах тифозного барака, тяжело ступал по сыпучему песку пустыни, задыхаясь от жара и пыли; нырял на глубину в плотную пасть безжизненной пучины, где скалы сжимают окружающее пространство, а мутный серый ил втягивает мое обессиленное тело, отбирая последнюю надежду на всплытие вверх, к синему небу, плещущемуся где-то очень высоко и далеко за спиной. Еще и еще раз задавался вопросом, какова причина накатившего уныния, но не находя ответа, просто тупо пережидал и переживал, стоя на краю бездны, чувствуя невидимое перегорание чего-то гадкого в душе в серый пепел, который в свое время вполне способен под давлением обстоятельств, в экстремальном температурном режиме превратиться в алмазы невиданной прочности.
Наконец, створка окна вздрогнула, подобно тяжелому театральному занавесу на долгожданной премьере, в черный квадрат проема ворвался аромат акации, утешая, угашая пламя болящего сердца. Вдалеке робко подала голос сонная птица, спросила «можно?» и, задрожав тельцем, наполнила тишину свирельными трелями. Яркие звезды на черном бархате неба ожили, засверкали. Сердечная тягота рассеялась, наступил покой — и я понял, что Творец вселенной снизошел ко мне, крошечной твари, Своей малопонятной нам животворной милостью. Будто мама, молодая, красивая и веселая тогда, бережно помазала кремом плечи, обожженные июльским горячим солнцем — вроде бы мелочь, а приятные ощущения материнской заботы остались на всю жизнь, и чем старше становлюсь, чем меньше в окружающем пространстве любви, тем чаще вспоминаю, погружаясь в теплые волны детских воспоминаний.
Эта долгая томная ночь, погрузившая меня в бездну ада, поднявшая в высоты Небес, этот незримый огонь вселенского одиночества, когда протянул мне руку мой ангел, осиявший мрак души огненным крылом — стала предвестником чего-то очень хорошего в моей никчемной жизни. И это случилось!
Цепи освобождения
Скованные одной цепью,
Связанные одной целью
И. Кормильцев. Наутилус
— Юра, дай мне три дня, — сказал я на прощанье.
— Это слишком много, — проворчал друг. — Боюсь, крутые ребята не станут ждать так долго. Напоминаю, они очень рассержены. Фактически, они ей вынесли приговор. Не сомневаюсь, им уже известен ее нынешний адрес. Если даже мы с тобой его узнали.
— Тогда, Юра, прошу: сдерживай их, сколько можешь, а там как Бог даст.
— Давай, Платон, поторопись.
Санаторий, как и прежде, насквозь пропах карболкой и мастикой для натирки паркета. Когда-то давно я здесь пытался лечить тело. Но случайно набрел на лесной монастырь и неожиданно для себя приступил к лечению души. С тех пор прошло по мирским меркам не так уж и много времени, но, учитывая мои путешествия по жизненному пути, кажется, проживаю второй нормативный срок или даже третий.
Вошел в комнату, где проживала Ирина, без стука, но она, видимо, ждала меня. Во всяком случае, подняла глаза, полные холодного спокойствия.
— Ты пришел меня устранить?
— Нет, уговорить, — сказал я. — Нам с тобой дали шанс. Если не используем, то да — пришьют, скорей всего обоих. Ведь с того момента, как сюда вошел, я стал твоим подельником.
— А теперь слушай, что произошло на самом деле, — произнесла она чужим, скрипучим голосом. — Сам понимаешь, когда осталось жить считанные часы, хочется быть предельно честной.
— Честной, говоришь… Прости, Ира, но я ведь помню твои слова про волков. Твои глаза, которыми ты меня прожигала. В ту минуту я поверил тебе — такую волчицу ничем не остановить… кроме пули. Потом сообщили о твоем участии в погроме на Профсоюзной…
— За это я расплатилась кровью, ты же знаешь. Я тогда чудом выжила. Неужели думаешь, я не сделала правильного вывода.
— И все-таки миллиард украла?
— В том-то и дело, что всю сумму по договору, за исключением моих комиссионных, я перечислила поставщикам. Только вот заказчик из управления узнал о расформировании своего детища, а также о том, что в новой конторе ему места нет, поэтому отказался от сделки, заплатил неустойку, а остаток денег перевел на личный счет в швейцарском банке. После чего выправил себе новые документы и сбежал заграницу.
— Почему ты с ним не сбежала? Ведь у вас был роман.
— Звал он меня, а как же, — вздохнула она горько, — только после покушения я решила стать честной, насколько это вообще возможно в насквозь коррумпированном государстве. А потом знакомый авторитет из «подольских курсантов» предупредил об измене и посоветовал залечь на дно. Так я здесь и оказалась. Ты мне веришь, Платон?
— Пока не очень, — признался я. — Все время передо мной стоят твои волчьи ненавидящие глаза.
— Тогда скажи, что мне сделать, чтобы вернуть твое доверие.
В напряженной тишине, когда казалось, что даже воздух комнаты искрит, Ира взглянула на меня, как из нашего детства, умоляюще, с надеждой. Меня что-то сильно кольнуло в сердце. Я даже на миг подумал, что снайпер «крутых обиженных ребят» не дождался завершения наших переговоров и выстрелил мне в спину. Но нет, оглядел себя, успокоил грохочущее сердце и решил кое-что предпринять для нашей безопасности.
— Давай, Ира, для начала попробуем максимально продлить нашу жизнь. Возьми листок бумаги, напиши всё, что помнишь про договора. Наверняка все документы с нашей стороны уничтожены, поэтому надежда лишь на твою память. Сосредоточься, пожалуйста, вспомни все до мелочей и напиши на бумаге.
Она села за стол и без прелюдии за десять минут исписала два листа бумаги. Я сфотографировал и послал Юре с припиской: «Проверь информацию от Ирины и хотя бы отложи нашу казнь. Ира не виновна. Ее подставил замначальника, он же украл деньги и скрылся заграницей».
Потом взял Иру за руку и повел за собой.
— Думаю, мы с тобой оказались в этом санатории не просто так. Именно здесь началось мое путешествие по уходящим отражениям.
— Каким отражениям?
— Потом как-нибудь объясню. Проще говоря, здесь началось мое покаяние. Думал, это «разовая акция», оглашу свои грехи, священник их сожжет разрешительной молитвой — и свободен! Ан нет, чуть ли не каждый день всплывают из памяти забытые грехи и скребут душу, наверное, так мучеников скоблили до костей во время казни.
— Куда ты меня ведешь? Можешь объяснить?
— За озером, в чаще леса стоит монастырь. Там служит иеромонах Иосиф — он-то и положил начало моему покаянию. Тебе нужно с ним поговорить. Ты готова?
— Что угодно, Платон! Я не боюсь снайперской пули, но не могу умереть с твоим недоверием — это страшней пули, это как жернов на шее, сразу утянет на дно.
Вратарник, всё тот же старик в линялой телогрейке, молча кивнул и махнул рукой в сторону храма. Отец Иосиф произносил проповедь — как я и предчувствовал — о вечности:
«Вопреки расхожему мнению, за границей жизни только два адреса: вечное блаженство в раю или мучения в аду. Большинство людей считает себя достойными рая, но увы, узкий путь ведет в царство небесное, и немногие его достигают. Уж слишком мы заняты суетой, некогда ни помолиться, ни попоститься, ни тем более принять на рамена вольные скорби, нищету, оскорбления — наши нынешние малые подвиги. Их не сравнить с теми нечеловеческими мучениями, которые понёс на кресте Спаситель, христианские мученики, исповедники. Но и даже самые крошечные наши подвиги Христа ради Бог принимает с радостью, осыпая нас Своими дарами».
— Отец Иосиф, сегодня мне посчастливилось услышать очень нужные слова — от вас и от Платона. Я на всё согласна! Сделайте что-нибудь со мной, чтобы мне очиститься и вернуться на узкий путь и… заслужить прощение и доверие людей.
— Тебе, Ирина, может быть неизвестно, что Платон конспектировал Дневник офицера. Мне позволено было прочитать конспект. Ты помнишь, чем закончилась книга?
— Офицер делал последнюю запись в дневник, и там написал, что с минуты на минуту ожидает ареста. А последние строчки были о том, что он не испытывает страха, наоборот, всем существом желает принять самые изощренные мучения, как первые христианские мученики. Такую благодать он испытывал, такое горение веры... О, Господи, какие мы по сравнению с ним!.. Особенно я.
— Верно. Всё верно. Было ли это предчувствие, или кто-то предупредил, только это случилось. В летописи нашей обители я разыскал запись о мучениях и блаженной кончине нашего Офицера, кстати звали его Георгием. Пришлось поискать, но мне удалось найти место его казни. Это отвесная скала, здесь недалеко. Там было нечто вроде древнего языческого капища, где мучили и казнили христиан. Во время нашего исследования капища, часть скалы отвалилась и ровно так, мягко упала на траву. Я решил, что это знак Божий. Мы с отцом диаконом привезли на телеге плоский камень в обитель и установили в подклети храма. Молиться у этой скалы — особенно страшно и благодатно! Кровь мучеников, которую впитал камень, вопиет к небесам. За полтора года, что у нас появился фрагмент скалы, от него много народу исцелилось, душой и телом.
— Я готова, батюшка! — воскликнула Ира. — Мне тоже очень нужно исцелиться. Как это говорится?.. Благословите!
— А как мне, отец, Иосиф, — сказал я, — помочь Ирине?
— Ты, Платон, как натура мистического плана, протянешь руку помощи Ирине, человеку более рациональному, а потому духовно немощному. В руке человека заключена невероятно мощная сила. Ведь не зря же возведение в сан священника называется рукоположением, не зря именно возложением рук Спаситель исцелял болящих.
Иеромонах с каждым словом, с каждой секундой уходил в себя, становясь отстраненным, неземным. Он лишь внешним умом общался с нами, душа же его отрывалась от земли, взлетала в небеса, готовясь к предстоянию у престола Божиего, страшному и спасительному.
— Встаньте рядом, прислонитесь спиной к скале, возьмитесь за руки, — монотонно произнес монах. — Чтобы вы не поранились, мне придется приковать вас этими цепями.
Отец Иосиф надел на наши запястья наручники что на концах цепей. Мы с Ириной переглянулись, у нее мелко дрожал подбородок, но глаза светились решимостью. От камня, иссеченного пулями, пропитанного кровью мучеников, исходил холод подземелья. Позванивая ржавыми цепями, прижались спиной к камню, пальцы внешних рук легли в углубления, оставленные пулями, внутренние руки сцепились в замок. Мне представилось, будто мы распяты, прикованы к скале наподобие гадаринского бесноватого, который разрывал цепи и с рёвом убегал в пустыню. Надеюсь, наша сцепка выдержит любые разрывные силы.
Пространство подземного храма наполнил лимонный аромат ладана. Сначала почти шепотом, чтобы мы старались вслушаться в каждое слово, потом все громче, прозвучала молитва. Страх улетучился, по рукам растеклось тепло, голова слегка закружилась — и в тот миг густой воздух подземелья взорвал крик Ирины, больше похожий на волчий вой.
Не предать своего ангела
И пока я удивлялся,
Пал туман и оказался
в гиблом месте я
В.Высоцкий. Две судьбы
Оказался в гиблом месте я, прозвучал надрывный голос Высоцкого, я оглянулся. В двух метрах от меня каталась по черной земле волчица, облепленная черными существами, и протяжно выла, будто рыдала. Брысь отсюда, поступила команда — из свалки черных существ, показалась рука, я дернул за нее — и вот передо мной испуганная Ирина, в обычном человеческом виде. Мы озирались окрест, пытаясь осознать, что это вокруг. Вроде бы знакомые улицы, дома, вдалеке брели пешеходы, по проспекту тащились автомобили, которым давно пора на свалку, редкие деревья и кустарник в серых листьях. От темной земли к серому небу поднимались хлопья гари — вроде дождя, только наоборот.
— Где мы? — спросила Ира, испуганно прижимаясь ко мне плечом.
— Да, именно, где мы? — спросил я неизвестно кого, наверное, по привычке. — Может объявишься наконец?
— Как прикажете, мой генерал, — сначала сказал, а потом появился пред наши очи мужчина с ироничным прищуром на знакомом лице со старой фотографии из Дневника.
— Офицер! Как тебя — Георгий, что ли? — обрадовался я. Повернулся к Ирине: — Не узнала? Это он писал Дневник. Мы его с тобой сто раз читали!
— Он же мертвый, — прошептала Ира, тесней прижимаясь ко мне плечом, кажется ее бил озноб.
— Я бы поостерегся в вашем положении утверждать подобное, — с той же иронией произнес Георгий. — Не чли ли в Писании, что у Бога нет мертвецов. Чтобы сейчас вот так запросто разговаривать с вами, пришлось мне, убогому, пройти через огонь искушений. Да я в вашей компании только потому, что вы читали мои записи. Правда не все из вас прониклись, — добавил он, взглянув на потупившуюся Иру. — Но Платону удалось не предать меня, он все годы был со мной, ну а я — с ним.
— Слушай, Георгий, — вырвался из меня обидный смешок, — а почему ты позволяешь себе со мной шутить и даже ёрничать? Тебе ли не знать, насколько я духовно тупой человек. Обыдно, да…
— Это чтобы не испугать тебя, — объяснил офицер, стряхивая с потрепанной формы вездесущий пепел.
— И сейчас ты в этом старом прожженном кителе, а не в белой тунике мученика с нимбом над челом — по той же причине?
— Ага… — весело кивнул он. — Я вижу, вы не узнаете свой район проживания? Это потому, что сейчас видите окружающее духовными очами. Ты же, Платон, хотел видеть всё как есть? Ну так, смотри, любуйся.
— Да это… это же преддверие ада!
— Ну не совсем… — офицер показал за угол моего дома, откуда блеснуло ярким светом, пахнуло приятным ароматом лимонного ладана. — Там храм, и это уже преддверие Царства небесного. А там, чуть дальше, — он показал за крыши домов, как бы раздвигая пространство, — то самое место, откуда я вас взял на… экскурсию, — снова улыбнулся он.
Мрачные темно-серые дома «разъехались», открыв просторный вид на лесной монастырь, сиявший подобно тысячекаратному бриллианту. В тот миг я почувствовал огромную благодарность Георгию. Если бы не его привычная ирония, если бы он говорил со мной как суровый аскет, зилот, я бы точно умом тронулся. А этот веселый мужик… радостный святой мученик — он как-то весьма бережно приучал меня к духовному миру, к таинственной мистике, от которой, увы, никуда не деться. Ну конечно, если неподготовленному вчерашнему атеисту вот так сразу распахнуть занавес и показать окружающее пространство, где между живыми людьми существуют не только ангелы Божии, но и мрачные существа из ада, беспощадные, злобные и… мощные, способные, по слову Серафима Саровского, одним коготком сжечь всю вселенную — если откроется вот это всё!.. То «с ума свихнуться» — было бы просто за праздник. И если бы не победивший всё зло ада, направленное на него, если бы не наш «веселый мужик», святой наш проводник, буднично и властно разогнавший легион темных существ, напавших на Ирину — не знаю, были бы мы с Ириной живы сейчас.
— Я очень благодарен тебе, Георгий, — сказал я неожиданно для самого себя.
— Мог бы и не говорить, — с привычной иронией заметил офицер. — У тебя на физиономии, итак, все написано. Ты очень искренний человек, Платон, иногда слишком. Ирина, держись этого парня, он не предаст. А то у вас по этому вопросу сплошной провал — все предают всех.
— Да я и так уж, вцепилась в него, — смущенно улыбнулась она, — боюсь руку сломать.
— А ты не бойся! Вообще ничего не бойся. Помните апостольское: «если с нами Бог, то кто против нас!» Ну, ладно, ребятки, давайте немного прогуляемся.
— Далеко? — настороженно спросила Ира, опять вцепившись в мое плечо.
— Да нет, здесь всё близко. Пройдемте, граждане.
Благодарность к этому парню опять сверкнула во мне. Мне было известно, в какую-такую местность мы сейчас направляемся. Ирина, похоже, так же подозревала, что ведут нас отнюдь не в парк культуры и отдыха, а чтобы предостеречь от дальнейших падений, от столь привычных греховных злодеяний. А где лучше всего вразумлять таких как мы разгильдяев? Правильно… именно там.
По грязной бетонной лестнице спустились мы в подземный переход. Но вместо пустого гулкого коридора со старушкой, продающей кофточки с носками, вместо череды светильников по кафельным стенам — мы оказались в скалистой местности. Мрачные утесы поднимались от серого пустынного песка под ногами вверх, к закопченным сводам высоко над головой. Испуганно озираясь, прошли шагов десять, завернули за рваный угол скалы — и вот мы в абсолютной черноте. На миг мы ослепли, в голове пронеслось: «если свет, который в тебе тьма, то какова тьма!» Офицер тронул меня за плечо, будто зажег невидимый фонарь, и мы увидели тысячи — может, миллионы — глаз, устремленных на нас из тьмы. Кто-то в отдалении сидел на камнях, тупо уставившись под босые ноги; кто-то извивался, оплетенный огромными червями размером с удава. «Эти просто не дошли до храма, отказались от церковных таинств, червь неусыпаемый мучит тех, кто пренебрегал постами, средой и пятницей».
Я оглянулся на офицера — он молчал, спокойно наблюдая за нами, грешниками, молясь об их прощении. Мне в голову пришла мысль, что сейчас нам ничего не надо объяснять — все эти предупреждения, все знания о том, что есть в аду — заложены в наш разум с детства, с момента крещения — они-то и всплывают из памяти, они-то и объясняют то, что творится вокруг. Не без опаски взглянул на Ирину — конечно, вряд ли ее можно было назвать бесстрастной, но все же и паники на лице не наблюдалось. Впрочем, руки моей она так и не отпустила, непрестанно бросая взгляды то на Георгия, то на меня, как бы подпитываясь нашей верой.
— А сейчас, дорогие мои, — прервал молчание Георгий, — прошу ни на миг не прерывать молитвы. Может быть страшно. Вы увидите место, в которое «прописал» вас персональный нечистый дух, приданный вам врагом спасения. Не желаете увидеть его?
— Нет! Не надо! — завопили мы.
— И все-таки гляньте, всего на секундочку — так надо. Должны же узнать, кто вас соблазняет.
Мы зажмурились, прижались друг к другу, напал парализующий страх. Полсекунды, секунда и еще полсекунды — мы увидели черное существо с перепончатыми крыльями, из глаз сочился яд невероятной злобы, готовый сжечь нас дотла, на уродливой бугристой образине появилась улыбка садиста, от него несло серной вонью, обжигающей носоглотку. Как голодный свирепый лев за решеткой зоопарка, он утробно рычал, порывался напасть, но его удерживала на дистанции невидимая преграда. Всё! Исчез. Мы даже не заметили, как наши руки сами собой творили крестное знамение, а в гортани бурно пульсировала Иисусова молитва.
— Что, познакомились? — ухмыльнулся офицер. — А ведь, когда соблазняет, может казаться таким лапочкой! Ладно, пошли дальше. Не волнуйтесь, это быстро.
Мы свернули за угол черной скалы и замерли на крошечном уступе, настолько крошечном, что казалось, одно неверное движение, и мы рухнем вниз. Но стояли твердо как вкопанные, наверное, все та же невидимая преграда удерживала нас на краю пропасти. Преграда, вылитая из бронированного стекла нашей молитвы. Мы с Ириной трусливо отворачивались от того, что там, внизу, только слышали режущие ухо вопли.
— Ничего, ничего, — тронул нас за плечи Георгий, — только на секундочку — и обратно.
И мы, вцепившись друг в друга, до боли сжав руки, зубы, с трудом преодолевая парализующий страх — мы «взглянули в лицо бездны». Почему-то вспомнился старый фильм про сталеваров. Там героические труженики тыла разливали жидкую горящую сталь из мартеновской печи по тележкам. Примерно такие же реки горящей магмы увидели мы под собой — и тысячи, миллионы людей, выныривающих наружу и вновь погружаемых в огонь ударами длинных пик, которыми играючи били черные подручные здешнего «сталевара». Несчастные существа, отдаленно напоминающие людей, с выпученными глазами, распахнутыми ртами на обугленных лицах, истошно вопили. Среди лавины звуков мне удалось разобрать слова страшных проклятий — эти несчастные проклинали каждый день, каждый миг своей жизни, проведенный без Бога, в плену разврата и наслаждений, пьянства и насилия.
— Я где-то читал, — произнес я с трудом, — что из геенны огненной нет выхода. Это навечно…
— Не наше дело думать о судах Божиих, — сказал офицер. — Доподлинно узнаем всё обо всем на всеобщем страшном суде. А наше дело — сюда не попасть. Чем, собственно, мы и занимаемся. — Он глянул на Ирину. — Ну а как наша дама?
— Я так понимаю, что эта экскурсия в геенну огненную только для меня? Вам-то обоим это мрачное местечко уж точно не грозит.
— Насчет меня, — произнес я пересохшей до сих пор гортанью, — я бы не был так уверен. В конце концов, «нет человека иже поживет и не согрешит», и кто знает, может впереди у меня немало смертных грехов. А в геенну попадают именно за смертные грехи. Так ведь?
— Верно, — согласно кивнул Георгий. — Только с уточнением: за смертные грехи, нераскаянные. А у нас имеется такое мощное оружие против врага — как исповедь. Это покрепче пушек и ракет. Та образина, которая, кстати, сейчас рядом, только невидима, боится исповеди больше всего. Сам-то он на покаяние не способен, вот и не пускает людей в церковь — ему там полный разгром, ведь таинства церкви в основном тем и занимаются, что изгоняют нечистых из душ и телес человеческих. — Он снова улыбнулся. — А теперь, за хорошее поведение, хорошим мальчикам и девочкам положена награда. Пойдем, пойдем, теперь наверх.
Мгла на миг сгустилась до предела выносливости. Мы прошли как бы сквозь черничный джем. Ноги сами вынесли нас на каменистую площадку, подобную сцене с прозрачным занавесом. Передо мной раскрылось безграничное пространство, залитое светом. На меня пахнул дивный аромат цветущего сада. Я оказался в раю, в царстве Божием, небесном — то, что там нет бесов, ощутил всем существом: тело налилось здоровьем, душа наполнилась тихой радостью, дух — благодарным славословием Господу моему. Не знаю, сколько мне посчастливилось пребывать в раю, время растаяло, вечность пронзила меня несокрушимым покоем. Я прославлял Господа моего, Иисусова молитва с завершающим «слава Тебе!» рождалась на глубине сердца, разливаясь по кровеносным сосудам, нервам, достигая каждой клеточки моего обновленного существа. Я постигал сокровенный смысл расхожего слова «счастье» — не того, которое объясняет бурное веселье нахлынувшей страсти — а зрящего в корень, обнаружив сердцевинное «часть». Да, я стал частью Божиего царства, частью бесконечной животворящей любви Божией к детям Своим — и да, я стал счастлив…
Так бы и стоял в раю, переживая непередаваемую радость блаженной вечности, «забывая заднее», устремляясь вперед и ввысь, туда, откуда веяло ароматами райского сада, где ангелы и диковинные жар-птицы плавно летали, напевая песни, отзвуки которых мне удалось подслушать в Шамордино, где юные монахини пели акафист Пресвятой Богородице, а я оглядывался в поиске стоголосого хора, но видел лишь троих девочек в черном и их озаренные нездешним светом лица.
Так бы и стоял в раю, откуда ко мне тянулись руки святых и спасенных, близких и дальних друзей и родичей, огненные ангельские крылья… Только, видимо, единственный человек, которому поручено наше сопровождение — Георгий — тронул меня за плечо, заставив оглянуться.
То, что я увидел, меня немало расстроило: Ирина распласталась по невидимой преграде, похожей на толстое стекло, она пыталась проникнуть в рай, но не могла. Она смотрела на меня умоляюще, разве только не рыдала, но не могла стать рядом, чтобы разделить мое счастье. Я с горячим сожалением выступил из райского света, вернувшись на «сцену» за непреодолимый для Ирины занавес и принял в объятья несчастную. Она жадно вдыхала мой запах, аромат цветущего сада, должно быть, пропитавший мою одежду, мою кожу — и тихо плакала, как маленькая девочка, строго наказанная за обычные детские шалости. Георгий, некогда суровый офицер, непреклонный и бесстрашный, обладавший кристальной верой в Бога, отдавший Господу всего себя, самую жизнь — тоже отвернулся и смущенно вытирал слезы.
Но вот и всё. Следуя молчаливому приказу, мы разом отвернулись от зовущего света и, пройдя сквозь густую тьму «мрака совлечения», оказались на земле, в храме, перед иеромонахом, внимательно наблюдавшим за выражением наших лиц.
На линии огня
Большие города,
Пустые поезда,
Ни берега, ни
дна,
Все начинать
сначала
Би-2. Большие города
— Идите с Богом, — чуть охрипшим голосом произнес отец Иосиф. — Ничего не бойтесь. Положитесь на волю Божию и ступайте вперед, не оглядываясь. Благослови вас Господь.
Мы покинули монастырь, там, за спиной осталась тишина, здесь вокруг скрипели сосны, рыдали испуганные большие птицы. Здесь раздавались приглушенные выстрелы, шумел, истекал кровью, убивал сезон охоты, согласно купленным лицензиям, охотник по праву более сильного хищника убивал невинных жертв — на вполне законном основании. Притихшая Ирина, вдруг встрепенулась, схватила меня за руку и потянула в сторону озера. Маслянистая черная вода призывно поблескивала между стволов деревьев. На берегу, очищенном рыбаками от тростника, мы встали как вкопанные — что-то невидимое и тревожное витало над темной водой.
— «Ничего не бойтесь», «не оглядывайтесь», — ворчала Ирина. — Может быть у вас это и получится, но не у меня. Я другая, Платон. Ты же сам видел — рай меня не принял, я там чужая.
— Это пока, Ира, только пока, на время покаяния, — умоляя твердил я. — Монах только приоткрыл дверь, тебе же предстоит много поработать. Царство небесное так запросто не дается, его нужно заслужить.
— Послушай, Платон, — сказал она, тронув меня за рукав. — Пока мы стояли у ворот рая, мне кое-что показали. Наверное, это было одним из моих препятствий. Но насчет меня все понятно: работать над собой и работать. Меня удивило вот что: к тебе в очередь выстроился целый табун девушек, а ты одну за другой подзывал и уводил за ширму.
— Ну и что? Ты еще в школе напророчила мне сотню романов. Наверное, что-то еще осталось… Но если мы вместе, что нам до них!
— И еще! — Она подняла руку. — Мы не вместе, Платон. Ты уже прописан в раю, а я недостойна. Это ты можешь ничего не бояться, а мне еще рано. Слышишь выстрелы? Два из них предназначены нам. Твоя пуля, как говорится, тебя не коснется, а вот моя… Скорей всего, попадет в самое сердце. Ведь именно туда целится сейчас спецназовец, не так ли?
— Да с чего ты взяла! Что за бредни!
— Я не договорила, — прошептала она упрямо. — Вот, что еще мне показали там, у врат рая. Твой лучший друг Юра мои сведения по договору в контору так и не передал. Месть рассерженных спецназовцев он не остановил. А еще Юра, пока был заграницей, как-то нашел моего партнера, который отменил договор и присвоил деньги себе. Под дулом пистолета он заставил почти все деньги перечислить на свой личный счет. В общем вор у вора награбленное украл. А теперь мы с тобой для Юры нежелательные свидетели его преступления. Поэтому снайперы спецназа сейчас выстрелят в нас, как только мы обойдем озеро и выйдем на огневой рубеж. Они там, за кустами. Я не вижу их, но чувствую охотников за версту. Поэтому сейчас ты идешь, куда хочешь, а я в другую сторону — шкуру свою спасать, волчью…
Ира оттолкнула меня и мгновенно скрылась в кустах. Я перекрестился и пошел «куда хочу», то есть в сторону огневого рубежа. Для меня слова монаха «ничего не бойся» дорогого стоят. Может это вера, или доверие, или просто фатализм — сейчас узнаю. Господи, благослови!
…Люди, я такой же как вы! – вопил я внутренне. Мне знакомы ваши ошибки, я знаю на какой подвиг готов каждый из вас ради святой цели. Моя любовь — от восторга до жалости, от салюта до острой боли. Я сам готов умереть за любого из вас, люди! Но!.. Но предательство лучшего друга!.. Чтобы такое простить, до такой святости мне очень далеко. Интересно, как относились апостолы к Иуде Искариоту? А ведь он пожалел о предательстве, вернул деньги «за кровь невинную» заказчикам, а в ответ: «Ничего не знаем, думай сам…» Вот это «думай сам» сейчас и во мне булькает, словно я сам предатель. Господи, помоги.
Обогнув озеро по берегу, вышел на открытую местность. Иисусова молитва пульсировала, как алая кровь из открытой раны. Ожидал выстрела, прислушивался к каждому шороху, но ничего, кроме обычных звуков леса и отзвуков дальних выстрелов охотников не расслышал. Наконец, в кустах, что метрах в десяти от меня, раздались два приглушенных выстрела. Я свернул на звук, продрался сквозь еловый кустарник и наткнулся на Юру. Он стоял над бездвижным телом мужчины в защитном комбинезоне, держал в руке пистолет с глушителем и говорил по телефону. Увидев меня, улыбнулся и произнес:
— А ты думал, я позволю убить тебя, моего друга? И не надейся… Еще в школе обещал тебя защищать. Вот этим и занимаюсь.
Я молчал, раздумывая, сказать ему о видениях Ирины или сам все объяснит? Между тем, Юра подошел ко мне вплотную, пахнул на меня ароматом ментоловой жвачки и горьким пороховым дымом. Наклонился над трупом, поднял снайперскую винтовку старого образца, достал пули, отбросил в сторону.
— Второй там. — Он махнул рукой сторону густого кустарника. — Знаешь, Платон, что я понял, пока носился по заграницам и возвращал награбленное в отечественные лабазы? Вот что: когда госбезопасность предает такие идеалы, как совесть, долг, честь, и начинает заниматься присвоением денег — конец всякой безопасности. Когда вся государственная система занимается воровством, надо выходить оттуда и создавать собственную систему.
— Ничего нового ты мне не сказал. Мы говорили с тобой на эту тему много раз, — очнувшись от шока, сумел сказать я нечто разумное. — Но зачем было убивать бойцов?
— Знаешь, во сколько контора оценила твою голову? В десять тысяч баксов. А знаешь, на какую сумму я пополнил наш с тобой общий счет? Десять миллиардов! У нас с тобой сейчас целая империя! Да не жалей ты этих пацанов, они бы тебя точно не пожалели. А что такое снайпер, стреляющий в безоружных мужчину и женщину? Бандит, отмороженный! Так что собаке — собачья смерть. Ладно, Платон, возвращайся домой и ничего не бойся. Мы теперь вообще неподсудны, с такими капиталами. С конторой я всё уладил. Просто заплатил хорошие деньги. Теперь они на нас работают, а не мы. Ступай! Увидимся. — Он махнул рукой в сторону санатория. — А мне еще необходимо кое-что зачистить. Хоть они и отморозки, но предать земле все же нужно, а то не по-христиански как-то…
Как мне с этим жить? Смогу ли по-прежнему дружить с этим человеком? Что впереди? В тупой голове теснились вопросы без ответов, сердце гулко отзывалось саднящей болью, ноги донесли меня до противоположного берега. Вошел «под сень дерев», обогнул высокий густой малинник…
— Остановись на минуту, — прошептал голос. — Раздвинь кустарник и оглянись назад.
— Не много ли ужастиков для одного дня? — проворчал я. — Погребение теплых тел безжалостным убийцей — не самое приятное зрелище.
— И все-таки оглянись.
То, что удалось разглядеть, было не из области «ужастиков», а скорей всего нелепой театральщиной. Юра обнимал «воскресших» бойцов, хлопал по плечам, поздравляя с успешным завершением операции. Поначалу я даже обрадовался тому, что не стал сообщником преступления. А чуть позже очередная порция недоумения обрушилась на мою туповатую голову. Юра поставил и разыграл спектакль для того, чтобы меня напугать до смерти? Чтобы пристегнуть к себе намертво? С одной стороны, смотри как я тебя оберегаю, с другой — вот какой я решительный и жестокий, даже не думай уйти от меня, а то будет как с этими двумя рассерженными мужчинами.
— Ты в курсе, сколько у тебя денег на личном счете? — прозвучал в голове знакомый голос.
— Да я же почти всё отдал на последнюю сделку по достройке коттеджа, — тихо прошипел я. — Тебе ли не знать. Потому и ездил к Семке-самураю, чтобы занять для того, чтобы элементарно выжить. Не мог же я разогнать фирму, там же люди, их надо кормить.
— Из чего следует?..
— Да, верно, — согласился я, — мне некуда деваться, придется продолжить работу под руководством Юры.
— А для этого что нужно?..
— Во-первых, простить, — продолжил я логический ряд. — А, во-вторых, набраться терпения и, стиснув зубы, продолжить работу. А как бы ты поступил на моем месте, господин офицер?
— Точно так же, — был ответ. — Кстати, именно с прощением и терпением я прожил всю свою не вполне правильную и счастливую жизнь. А еще — всегда смирялся под могучую руку Всемогущего Господа и молил Его вести меня по жизни так, как Ему будет угодно. «Сим победиши», как говорится.
— Благодарю, Георгий! Приятно осознавать, что я не один… в этом море зла.
— Обращайся, брат!
— Постой, а что будет с Ириной? Ты же видел ее демарш! Неужто и впрямь «сколько волка не корми, он всё в лес смотрит»?
— Ах, полноте, батюшка, — вернулся мой собеседник к ироничной манере общения. — Какая она волчица! Так, одинокая испуганная девчонка. Побегает малость, познает истинную меру своей немощи, смирится — да и вернется. А обращать внимание на приступы дамского своеволия — только время терять. Молись о вразумлении и спасении — Ирины, Юрия и всех близких — и будет с тебя. А теперь, солдат, успокойся и вернись к дальнейшему несению службы.
Итак, что мы имеем? Верней, я имею… или наоборот — не имею. Хорошо, что у меня появилось время и потребность к тому, чтобы придумать как жить дальше. То, что судьбинушка моя совершила крутой поворот, и я не смогу жить как прежде — это уж точно. Мне показана местность, куда я направлялся по смерти тела, исхода души, совершения суда — и это геенна огненная. По своей наивности думал, что я «хороший человек», пью как все, не ворую, не убиваю, не развратничаю, помогаю людям как могу. На самом деле, я очень нехороший человек, страшный грешник — убийца, трус, предатель, блудник и, конечно, вор. А по грехам и место предназначалось для меня вовсе не райское, а мрачное, мучительное и страшное.
Как же я должен благодарить Бога и Его верных служителей за то, что мне представилась возможность исправить сам вектор движения — то я катился в адскую пропасть, а то, после первых шагов покаяния, стал карабкаться вверх, где сияет солнце истины, откуда протягивают ко мне руки святые и зовут, зовут туда, в блаженство. Вот и Ирина сказала, что я де «прописан» в раю, а она… пока нет. Но, ничего, ничего, Ирочка, мы с Георгием тебя вымолим, выправим, во всяком случае, сделаем все возможное, чтобы и ты «прописалась» в «месте светле, месте злачне, покойнем, идеже присещает свет лица Его, Господа моего». О, как же меня корежили эти слова совсем недавно — Господь, раб Божий, упокоение — каким мертвенным отчаянием веяло от них! На самом деле, это те мрачные сущности, которые издеваются над грешниками — но как же несчастные кричали, как страдали! — эти самые «нечистые духи», как их не без обоснованного страха именуют — они навевали на меня черный дух отчаяния. Это они, опираясь на живущие во мне страсти поганые, разжигали в душе неприятие всего Божественного, светлого, радостного.
И вот еще, какая мысль посетила меня «в мою минуту роковую» — там, где я был ветреным разгильдяем, необязательным, беспечным — отныне от меня требуется максимальная осмотрительность, всё внимание, на которое я способен; вплоть до вольной жертвенности и самоотречения. И вот тут не обмануться бы, не свернуть на прямую широкую дорогу стяжания материальных благ, не увлечься славой сиюминутной, отвернувшись от славы вечной, истинной Христовой. А что нужно для того, чтобы не сбиться с верного пути? Конечно, настроить внутренний духовный настрой согласно камертону истинному, то есть насытить душу святоотеческим учением, огненными словами Писания, в конечном счете — Духом Святым.
Каждый шаг по лесу, среди хвойной влаги, в невидимых волнах
земных испарений, сквозь строй деревьев, задевая приземные ветви, приминая
упругую траву — каждый шаг, каждый удар сердца, вздох — вели меня по цепочке
отражений, впечатывая в душу, в мозг, в каждую пору кожи, стрелы света,
сияющего из райских высот, отражающегося от мутных блесток души. Отсюда будущее
кристаллизовалось в нечто определённое, а в прошлом, выявленное и исповеданное
зло таяло во тьме веков, а сделанное добро рождало надежду и требовало
приложения усилий. В тот миг слова апостола Павла просочились в душу и стали
понятны, а раньше я их не понимал и даже отвергал, вот они: «Братия, я не почитаю себя
достигшим; а только, забывая заднее и простираясь вперед,
стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе» (Фил 3:13).
Чтобы хотя бы во время обратной дороги никто не мешал, мне пришлось купить оба места в купе СВ. Но и здесь пришлось трижды открывать дверь и впускать проводницу, весьма привлекательную особу. Наконец, сухо попросил ее больше не беспокоить, закрыл дверь на защелку, прилег на диван и, прикрыв глаза, погрузился в молитву, которая действовала во мне там, в раю. Как гром среди ясного неба, как оса, спикировавшая на лоб — завибрировал телефон. С трагическим вздохом «да будет воля Твоя», нажал на кнопку с зеленой трубкой.
— Я всё видел, — выпалил я в микрофон. — И «воскресение» павших, и твои обнимашки.
— Об этом лучше забыть, — ответил спокойный как белый слон Юра. — А не можешь, просто молчи, до поры до времени. — В трубке раздался щелчок, видимо Юра включил встроенное устройство защиты от прослушки. Далее звук его голоса стал более механистичным. — Давай, попробую кое-что объяснить.
— Попробуй, — выдохнул я, подозрительно бесчувственно.
— Операция, к которой меня подключили, была сверхсекретной. По сути, меня подвели к расстрельной статье. Ты, наверное, слышал о серии самоубийств генералов и чиновников высшего ранга? Да, они не сами, их пустили в расход, чтобы не предали огласке тайну исчезновения миллиардов из нашей страны. Собственно, ради этого и затеяли так называемую перестройку. Мне удалось вернуть на родину лишь малую часть ворованных денег, но и этого хватило, чтобы удержать на плаву контору, раздать кому нужно бонусы, и нас с тобой не забыть. — Он протяжно вздохнул, сделал глоток своего любимого коньяка и продолжил. — Со мной в команде было не менее десяти человек. Мы держались друг от друга на расстоянии, соблюдали строжайшую конспирацию, но, как в любом денежном деле, и у нас был свой предатель. Во всяком случае, тех кого я лично знал, уже устранили. Как я выжил, по твой молитве или еще по какой-то причине — это в любом случае, чудо. Значит, нам с тобой предстоит трудиться дальше, бок о бок.
— Ну ты же знаешь, Юра, — взмолился я, — как сказал Высоцкий: «ну, а где агрессия — там мне не резон!».
— Да знаю, знаю, — проворчал он, — и как ты помнишь, я даже не возражал, когда ты отказался заниматься продажей оружия и алкоголя. И твою, вполне себе мирную, фирму помог тебе открыть, и денег тебе дал на развитие. Я тебя понимаю, ведь знаю с детства. И сейчас делаю всё возможное, чтобы защитить и поддержать. И всегда так будет.
— Спасибо, друг, — прошептал я.
— Сам понимаешь, те деньги, которые мне удалось зачислить на мой личный счет — это взносы простых партийных работяг. Они не грязные, на них нет крови. Ты подумай, как расширить твой бизнес, какие направления развить. Потому что, прости за правду, меня могут грохнуть в любой момент, как тех моих коллег по команде. Ну так, чисто теоретически… Поэтому я открыл на твое имя несколько счетов и забросил туда хорошие такие «арбузные» суммочки. Как говорят в народе, «а шоп було», или еще: яйца нужно хранить в разных корзинах… Ну, ты понимаешь. Так что, давай, развивайся. Я тебе еще лучших коммерсов подкину, чтобы тебе не заморачиваться насчет налогов, кредитов и прочей скучной ерунды. Твое дело — стратегию разрабатывать и производство направлять. Ну что, по рукам!
— Кажется, да — произнес я неуверенно.
— Да, Платон, еще на посошок, так сказать. — Юра исполнил еще глоток, крякнул, смачно выдохнул и решительно произнес: — Ты знаешь, я паршивый христианин. Но! В твою молитву я верю. Более того, силу твоей молитвы я испытал на своей шкуре. На полном серьёзе, уверен — твоя молитва меня спасла от верной погибели. Так что, спасибо тебе, друг! Это серьёзно, ты понял…
— Понял, еще как понял, — сказал я, отключил телефон и мысленно вернулся к моему благодарному стоянию в раю.
Мечты о тишине
Больше всего мечтал о тишине.
Я унес бы, сколько смог, наслаждался вкусом.
Я бы ее праздновал.
Майкл Финкель. Я ем тишину ложками
В раздумьях и молитве, самобичеваниях и оптимизации я неуклонно приближался к месту жительства. Квартиру в этом доме посоветовал купить Юра. Мне жилье понравилось тем, что дом старый, но качественно отреставрирован; однокомнатная квартира здесь просто огромна и называется не абы как, а «студия» — как услышал это слово, так и подписал купчую. Всё бы хорошо, но соседи мне достались… Так, никакого осуждения!.. В конце концов, если меня поместили в такие условия пребывания, значит они для меня оптимальны, спасительны.
Не дойдя до места постоянной регистрации ста двадцати метров, вспомнил, что дома есть нечего, а голод потихоньку сдавливает костлявой рукой горло, желудок и все остальные органы пищеварения, во рту обнаружилась горькая сушь. Идем в магаз, как говорят нынешние юзеры. Несмотря на неурочное время, в продуктовом отделе толпился народ. Может, опять объявили кризис, а может я опять чего-то не узнал в новостях, но делать нечего, стал обходить полки со съестными припасами, по привычке цокая сухим языком, зачитывая ценники.
Наполнив тележку доверху, встал в очередь в кассу. Передо мной стояло существо неопределенного пола, растрепанное, мятое, пахнущее потом и перегаром. В легкой сетке на локте перекатывался батон колбасы в обнимку с бутылкой пива. Видимо, движение продуктов по дну сетки вызвало раздражение, из рукава синей куртки выдвинулась рука с колечком на пальце и придавила беглецов к сетчатому бортику. По загорелой руке с длинными пальцами делаю вывод — передо мной девушка, видимо в состоянии депрессивного кризиса. И я принялся её жалеть. Чтобы чувство сделалось максимально чувствительным, девушка решила оглянуться и по ходу кругового движения, двинула меня локтем в живот и окатила презрительным взором хоть и заплывших, но необычно крупных глаз. Я задвинул свою тележку между нашими корпусами, во избежание…
Уже подойдя к самой кассе, девушка обнаружила, что забыла хлеб, увидела у меня два батона и буханку ржаного, схватила батон нарезного, пробурчала: «надеюсь, не против» и шмякнула перед кассиром. Дальше было перетряхивание карманов в поисках денег, нетерпеливое сопение кассира и просьба «добавить стольник, если не в лом», обращенная ко мне. Я кивнул. Потом долго и тщательно перекладывал покупки из тележки в хрустящие пакеты, потом выходил из магазина наружу, где на меня набросилась давешняя воровка:
— Ты не думай, я деньги верну, — тараторила она, обдавая меня кислым перегаром.
— Да ладно вам, — пытался успокоить даму, максимально отодвигаясь от дурно пахнущей струи, направленной в мои ноздри. — Не стоит благодарности.
— А с чего ты взял, что я благодарю?
— Как-то надеялся, по привычке… Послушайте, милая барышня, вы не могли бы пожалеть моё обаяние и слух, направив крик в другую сторону.
— И не подумаю! — обдав меня очередной порцией перегара, подбоченилась дева.
— Тогда, очень вас прошу, — вежливо произнес я, скрипя зубами. Потом набрал воздуха и выдал: — Чтобы меня не вырвало на ваше вечернее платье от вашего зловонного перегара — пошла вон, дура!
— Вот это другой разговор, — смягчилась дама. — Это я понимаю, это я сейчас. — Виртуозно открыв бутылку с пивом, использовав в качестве открывашки кольцо из нержавейки на пальчике, она залпом выпила содержимое, протяжно рыгнула и улыбнулась. — Ну вот, можно жить дальше. Что встал как пень, проводи даму до двери. Не видишь, насколько опасна криминогенная обстановка в нашем районе.
— Извините, у меня руки заняты килограммами еды, я очень устал, хочу есть и даже при желании, которое отсутствует, не готов провожать кого-либо куда-нибудь. Простите.
— Давай помогу, — смилостивилась она, схватив сразу три пакета. — Двигай кони! Да ты не парься, нам по пути.
— Откуда вы знаете?
— Да видела тебя как-то, из моего подъезда выходил.
И мы пошли. К своему удовольствию обнаружил, что токсичность струи воздуха из коралловых уст попутчицы снизилась до вполне терпимых показателей, рукам явно полегчало, а воздух на районе показался просто ароматом амброзии.
— Вам на какой этаж? — спросил я, войдя в лифт.
— На твой.
— Надеюсь, номер квартиры отличается от моего?
— Ага, на единицу.
— Так мы соседи?
— А ты еще не понял?
— Куда же делась эта семейная пара, что жила рядом?
— На родину предков, вестимо. — Она ехидно улыбнулась. — Зацени, здесь были докторами наук, а там разнорабочие на стройке. Бригадир у них араб, сам почти не работает, только кофе пьет каждые полчаса, а их гоняет, как собачонок. Прислали письмо, что хотят вернуться, чтобы я готовилась освободить квартиру. Догадайся с двух раз, как я им ответила?
— Вероятно, обнадежила? Мол, сочувствую и готова по первому требованию освободить жилье и всё такое.
— Конечно, ага, — кивнула она. — Намазала руку кетчупом, свернула смачный такой кукиш, сфотала и послала на ихнее мыло.
— Да-а-а, милая барышня, — протянул я, открывая дверь, искоса глядя, как соседка нехотя вставляет ключ в замок своей двери, с надеждой ожидая приглашения на пир ко мне домой. — Работы здесь непочатый край. Но шанс есть… — Проскользнул в скупо открытую входную щель, энергично захлопнул дверь перед ее носом и ринулся на кухню — очень хотелось есть.
Ночью спал как младенец, с удовольствием погружаясь в светлые волны снов о главном. А утром, очень ранним утром, раздался звонок в дверь. Прежде, чем открыть, глянул в панорамный глазок — мне в упор улыбался Сергей, которому никогда не мог отказать. И я открыл. Следом за Сережей, толкая его в спину, ввалился Палыч, сходу завывая поэтическим шедевром, сочиненным скорей всего на ходу:
— Мы будем пить и смеяться как дети, Хоть помелом седая
борода, Ведь мы такими
родились на свете, Что не трезвеем нигде и никогда, тра-да-да.
—
Прости, Платон, — принялся сокрушаться Сергей. — Этот бандит меня чуть не
прибил: вези к Платону и всё тут. Люблю, говорит, сил нет как люблю его
сиятельство!
— Не
Серега, так Джек или кто-нибудь другой дал бы мне твой адрес, — хрипел Палыч,
рыская глазами по студии. — Короче, наливай, твоё сиятельство, а то прибью, но
с большой любовью, чисто из воспитательных целей. Ты меня знаешь.
—
Ладно, хорошо, — смалодушничал я, похлопывая по костлявому плечу
поэта-экстремиста. — Давай так: Сергея отпускаем домой, освобождая из плена.
Ему ведь завтра на работу. Мне, согласно распорядку дня, надлежит спать еще час
сорок. А тебе наливаем стакан, режем последний огурец и укладываем за ширму, в
покои для гостей. Идет?
—
Норма-а-ально!
Под
рычащий храп с «пристани загулявшего поэта» я досыпал свои час сорок, но
снились мне отнюдь не светлые дали, а испытание танка на военном полигоне, на
предельном форсаже тысячесильного газотурбинного двигателя. Вдруг танк
остановился, кокетливо покачался вперёд-назад и замер, а на смену ему заверещал
дверной звонок, настойчиво и противно. Покачиваясь от недосыпа, натягивая
сползающие на колени тренировочные штаны с растянутой резинкой, я по синусоиде,
сдерживая рвущиеся из недр возмущенной души ругательства, распахнул дверь,
размахнувшись на всякий случай правым кулаком. На пороге стояла, покачиваясь,
соседка из квартиры, что с номером меньше на единицу и, увидев мой свирепый вид
и занесенный кулак, отступила.
— Ой,
что-то сегодня ты такой неласковый, — пропищала она, — как обычно. Что с тобой?
— Где
ты успела назюзюкаться? У тебя несколько часов назад ни денег не было, ни
перспектив.
— А,
это!.. — Она махнула рукой. — Я тут одну халтурку срубила, а заказчик растоптал
нашу любовь, меня бросил, гад такой, и расплатился не деньгами, а пятью литрами
самогона. Сегодня ночью допила последние граммы зелья, так что можно сказать,
торжественный запой, посвященный окончанию любви до гроба — завершен. Дня через
два-три, я верну себе человеческий облик, и ты увидишь, какая я хорошая и
красивая девушка. Так что готовься к нашей свадьбе, копи деньги и заказывай
костюм с рестораном. Кстати, а тебя как зовут?
—
Платон.
—
Ничего себе нагрузочка! А давай, я буду звать тебя Батон, ну в честь того
батона нарезного, который я увела с твоей телеги и уже съела.
— Не
давай! — огрызнулся я, по-прежнему загораживая телом вход в студию. — Называть
меня можно только Платон. А тебя кстати, как зовут?
—
Официально — Маришка, в честь солистки «Шокин блю». Мои предки фанатели от
«Шизгары». Но зовут меня то Марина, то Рина, то Инна, а еще — Пиявка, но мне
так не нравится.
— А в
тебе на самом деле есть что-то от Маришки Вереш — пробубнил я, вызывая из памяти
фотографию симпатичного личика солистки «Шокин блю», облетевшую в свое время
все газеты и журналы мира. — Только знаешь, она ведь не пила и не курила,
наркотиками не баловалась, а когда брутальные парни из группы ее ругали,
девушка плакала и жаловалась маме с папой по телефону. Словом, она была очень
хорошая девушка. Очень.
—
Подумаешь, и я такой стану, — размашисто кивнула Рина-Инна-Пиявка. — Самогон-то
кончился, а с тобой тусу не сваришь, как я понимаю. Ты у нас этот… трезвенник,
прости Господи. Ой, — она прикрыла рот ладошкой, — я, кажется, поминаю всуе…
Прости, Батон, то есть Протон.
—
Платон! — рявкнул я. — Последнее предупреждение! У тебя всё?
— А у
меня дверь захлопнулась, а ключа с собой нет. Можно у тебя слесаря подождать?
— Я
видел твой замок, он без ключа не закрывается. Опять врешь?
— Вру,
— легко согласилась она. — А можно так просто, в гости к тебе? Ого, ты крутишь
хэви-металл или трэш? Как только вы это старьё слушаете! А можно и мне? Может
проникнусь?
—
Нельзя! Нет у меня никакой музыки. Теперь-то у тебя всё?
— А
вот и не-е-ет! — проблеяла она, оттолкнув меня от двери, просочившись внутрь
ужом. — Зачем же ты обманываешь доверчивую девушку! Да у тебя тут крутейшая
тусня, судя по храпу и перегару. — Она подошла к покоям для гостей, сдвинула
мягкую перегородку и с нежностью уставилась на рычащего во храпе бородатого
мужика. — Ой, какая прелесть! Я тоже так хочу!
— У
тебя не получится, бороды нет, да и трех лет тюрьмы тоже не заслужила, за веру
православную. К тому же он поэт-экстремист, широко известный в узких
диссидентских кругах. Обмывает выход на волю, как это у них: «На свободу с
чистой совестью!»
— Как
интересно! Можно с ним познакомиться?
— Нет!
Ты сейчас уходишь домой, поэт досыпает свои канонические шесть часов, я — сорок
минут. Потом холодный душ, крепкий кофе — и за дела, которых скопилось тьма
тьмущая. — С этими словами бесцеремонно вытолкал непрошенную гостью из дому,
рухнул в постель, горестно вздохнул: «Что же теперь, меняться на другую
квартиру? Здесь житья не будет!..» — и отключился.
Проснулся
ровно через сорок минут. Разбудил меня робким касанием плеча изрядно помятый
Палыч. В нос ударил резкий запах кофе — он протянул мне кружку, прокашлялся и
прогудел:
—
Платон, ты это… Серегу не ругай, он хороший парень. Это я во всем виноват. Как
вышел на свободу, так и… потерялся. На зоне была цель — выжить, там я
чувствовал себя человеком, проповедовал, писал стихи, а как освободился, так
и…всё — одна пустота. Ну и запил… Да так, что и остановиться не могу. Прости.
— Да
ничего, дело-то житейское, — прикончив крепчайший кофе, произнес нечто
вразумительное и я.
— Это
не всё, — понуро продолжил вовсе не брутальный с утра поэт. — Когда я вчера
ввалился к Сергею, он писал что-то на компьютере. Он смутился, поспешно
захлопнул крышку. Я достал деньги и послал его в магазин. Пока он бегал, открыл
комп и стал читать. Знаешь что? Серега — он… настоящий писатель! Меня что-то
так скрутило от зависти. Стыдно стало. Я ему ничего не сказал, а просто напился
как поросенок. А поговорить с ним о его книге так и не смог. Вот поэтому и
велел привезти сюда, к тебе. Ты-то все понимаешь, тертый калач, бизнесмен и все
такое. — Он вскинул мутные красные глаза. — Выпить есть?
—
Вчера последнее тебе налил. Да и не стоит тебе пить сегодня.
— Это
почему же!
— Ты
сейчас таким мне очень нравишься. В тебе есть покаяние, сокрушение и сожаление —
самые правильные чувства. А если назюзюкаешься — всему конец. Завтра же всё
забудешь, одно останется — зависть и злоба. А это очень недобрые советчики.
Слушай, а что тебе мешает прямо сейчас пойти в храм и хорошенечко исповедаться?
— Я
думал, ты человек! — Он резко встал и заходил по студии. — Да неужто не
понимаешь. Мне сейчас всюду красные дорожки под ноги стелют, в газетах-журналах
пишут, интервью чуть не каждый день даю. Пьяным. И все меня прощают, входят в
положение и все такое. Это что! Меня почти все монаси и священницы реально
боятся. Думают, что к святейшему дверь ногой открываю, а митрополиты у меня,
прям как у Пушкина, золотыми рыбками на посылках служат.
— Так,
всё понятно, мне всё понятно — сказал я, вставая. — Давай так: есть у меня
такой священник, такой монах — настоящий, уж он-то тебя не побоится. Исповедает
до полной чистоты в душе и епитимию назначит, да еще проследит, чтобы ты ее как
положено отработал.
— Не,
не надо, — пробурчал он, подходя к входной двери. — Таких я сам боюсь.
— Это
уже не ты сказал, а «тот который в тебе сидит и считает, что он истребитель».
Так Высоцкий пел. В минуты просветления.
— А у
нас так поют: «Ох, мусорок, не шей мне срок!»
—
Ладно, как хочешь, — вздохнул я. — Как созреешь, приходи с вещами, отвезу.
— Это
вряд ли! — крикнул он из-за двери и громко захлопнул бронированную створку.
Да-а-а, господа-товарищи-братва, видно, будет у нас не легкий бой, а тяжелая битва.
Струил закат
Я шел, печаль
свою сопровождая.
Над озером,
средь ив плакучих тая,
вставал туман,
как призрак
самого отчаянья
П.Верлен. Сентиментальная прогулка
Такое со мной и раньше случалось, каждый раз неожиданно. Правда, иногда приходилось или вызывать подобное состояние, или входить в теплую воду комфортных ощущений. Некоторые доброжелатели предостерегали, а некто из друзей, наоборот, просили войти в струю, внимательно оглядеться и оттуда — из самых глубин — извлечь и поделиться тем самым лучшим, что иногда называлось «вкусненьким», из области сакрального мистического нечто.
Вот и сейчас, вышел из дома на пустынную поутру улицу. Дома, пока принимал душ, завтракал, одевался, потом в лифте пока спускался — в голове теснились планы и желания. Вот и сейчас, стоило выйти в социум, вдохнуть сравнительно свежего ветра, как голова вмиг очистилась, и я погрузился в ту самую теплую струю, которая именно сегодня меньше всего предполагалась. Даже не произошло ничего, что обычно приводило к тому, а просто ощутил, что не хочу заниматься делами, не имею потребности кого-либо спасать, воспитывать или еще чего. А просто иду по улице, прислушиваясь к внутренним ощущениям.
«Как можно слушать такое старьё!» Даже не вспомнить, кто это сказал, и когда. Но именно сейчас оказался в комнате общежития с Колей, откуда переместились домой к Лешке, сидели на концерте с Олегом, лежал на пляже с Борькой — и всюду мы слушали нечто фантастическое. То была эпоха возникновения новых музыкальных течений, и каждая группа, стоявшая на старте, была гениальной, смелой, сумасшедшей — они вспыхивали, как молнии, горели огнем, сверкали фейерверком. Кто-то сгорал, не успев повзрослеть, а случались и такие, кто задержались на музыкальном олимпе на десятилетия и до сих пор теребят нервы, ослепляют вспышками света, оглушают всплесками взрывных звуков — и всё неземное, непривычное, взлетающее в космические высоты.
То наша бунтарская юность отказывалась подчиняться мертвенным идеологическим штампам, вроде «наше учение всесильно, потому что оно верно», а чуть вильнешь в сторону от генеральной линии — ты отщепенец и враг народа. Да идите вы туда, где вашей мертвечине самое место — вопила душа комсомольца. Молча, в основном, или шепотом на ухо пьяному другу. И включали музыку протеста, взрывающую, ослепляющую, оглушающую, опаляющую. Которую еще надо найти, купить диск за страшные деньги или на худой конец записать на магнитофон, на который тоже еще надо заработать, где-нибудь в Сибири, на вечной мерзлоте. Ну, а уж если повезет, то проникнуть на концерт культовой группы и до одури наораться самому под звуки наизусть заученных песен, до звона в ушах наслушаться новых композиций, которых не услышать на пластинке, а только на живом концерте. Это было как отрыв от пыльной земли в стратосферу, как выход из пропахшего потом и экскрементами корабля в открытый космос, как полет орла над картой земной поверхности, разостланной далеко внизу.
Вот такое «старьё» перелопатило нашу молодость. И что характерно, с тех пор ничего более яркого, талантливого, потрясающего не случилось. А нынешние репы-хопы-техно-инди — лишь бесталанная попытка догнать последний вагон и хоть зайцем, хоть клоуном, хоть плагиатом запрыгнуть в уходящий поезд, чтобы сорваться с пыльного поручня и грохнуться с позором на остывающие рельсы. Но у нас еще остались шипящие под иглой пластинки, затертые до дыр магнитофонные ленты, и самое главное — воспоминания о тех временах, когда рок-музыка была глотком свободы, в душной затхлости разлагающейся мертвечины.
А сейчас, расставшись с планами, делами и потребностями… сейчас во мне звучит Битлз, на смену «ливерпульской четверке» заходит Криденс, потом Лед Зеппелин, Дип Пёпл, Абба, Бони М, Скорпионс, Металлика, Иглз, Пинк Флойд… А там, за углом, в узком переулке звучат издалека и зовут в гости Аквариум, Воскресение, Ария, Черный кофе, Наутилус… По углам, на кухнях, у костра напевают баллады Высоцкий, Булат Окуджава, Юрий Кукин, Александр Дольский… Старьё, говоришь? Да они живее всех живых, во всяком случае из тех, кто еще пытается выглядеть живыми.
Так куда же завел меня столь приятный теплый ностальгический поток? Правильно — на кладбище. Надо мной шепчутся листья старых деревьев, под ногами стелется асфальтовая дорожка, вокруг частоколом теснятся деревянные, металлические кресты, бетонные, мраморные памятники. Здесь покоится прах предков, родителей и прародителей. Там, чуть дальше, где деревья пониже — ряды родичей, друзей, одноклассников, соседей, сотрудников. Они, как и музыка, звучащая во мне — живы, по-прежнему разговаривают со мной, спорят, ругаются, зовут, просят, умоляют.
Помню вас, люблю, в том числе предавших, обманувших, обворовавших — всех. Мы жили вместе на земле, учились любить друг друга, прощать и помогать, а порой и выживать. Я не лучше или честнее любого из вас, просто пока жив. И пока живу, обещаю прощать, любить и молиться за вас, приставать к священникам и монахам с записками на обедню, молебнами, панихидами — знаю, верю в силу молитвы служителей Божиих, знаю, как вы их ждете там, в невидимых для нас местах, куда распределил вас Судия, грозный, справедливый, милостивый. Вот, Он смотрит с золотистого креста прямо в глубину души, преданный, распятый, прощающий, спасающий, из ада в рай поднимающий, по молитвам пока еще живущих на земле людей.
Как всегда, после горячей, живой молитвы о упокоении, поклонов, возжжения свечей, после милостыни в грязные руки пьяненьких нищих — на душе становится легко и светло. Часто при этом небо очищается от серых туч и облаков, изливая на нас, улицы и площади, играющих детей, сидящих на лавочках стариков, летающих ласточек и воркующих голубей — солнечные лучи, изгибающиеся веселой радугой на благодарных слезах молящегося.
Ну вот, теперь можно продолжить суетный земной путь, надо лишь прислушаться внутренним слухом, прочувствовать ощущения, рассмотреть перспективу и двигаться дальше, по указанному свыше маршруту. Куда? На работу? Нет, не хочу, там и без меня, с крупными финансовыми вливаниями, под руководством харизматических лидеров, справятся, подождут, перетопчутся. Так куда? В голову зашли слова поэта-экстремиста про книгу, которую при всеобщем неведении пишет себе прекрасный человек Сергей, Серега, Сереженька, нищий, трудящийся, безотказный, кроткий. Вот куда ноги повели меня, вот куда потянуло, повлекло меня в столь трепетный миг таинственного дня моей непростой жизни.
Поднимаюсь на шестой этаж, звоню в дверь, слышу шаркающие шаги, на пороге стоит улыбающийся растрепанный Сергей. Чувствую прилив симпатии к этому парню.
— Прости, я без упредительного звонка, — бубню смущенно. — Ноги сами к тебе привели, я не планировал.
— И очень даже правильно привели. Это я у тебя должен просить прощение за вчерашнее вторжение, в обнимку с пьяным бандитом.
— Наверное, по этому поводу я и пришел.
Зная бедную пустоту холодильника, по пути заглянул в магазин. Протягиваю хозяину хрустящий пакет с продуктами, винами, фруктами. Пока раздумываю, с чего начать разговор на довольно щепетильную тему, помогаю нарезать хлеб, помидоры, огурцы, зелень, сыр. На плите шкворчит яичница, закипает старинный алюминиевый чайник. Несколько раз пытался разглядеть компьютер на столе в комнате, но как ни изгибался, как не вытягивал шею, так и не обнаружил. А если бы и увидел, чтобы бы мне это дало? Ладно, начну разговор, а там как получится. Сергей завершил устройство кулинарной композиции, прочитал «Отче наш», перекрестил яства и питие. Проглотив желто-белый сектор глазуньи, хлебнул крепкого чая, приступил к допросу.
— Как докладывал выше, сегодня наносить визит не имел ввиду.
— И все-таки хорошо, что нанес. Вот и голодного накормил.
— Спасибо за предоставленную возможность, товарищ.
— Ты кончай тормозить, Платон. Что, Палыч тебе успел доложить о прочитанной книге? Думал, я не обнаружу, что он копался в компе. Так он мне даже полстраницы умудрился стереть. Как тут не заметить.
— Честно говоря, не имею представления зачем говорить про книгу, но Палыч так расстроился, так разозлился… Так что ты там набуровил такого, сверхъестественного?
— Да ничего особенного. Что есть на душе, то и пишу. Помнишь из Писания: «От избытка сердца говорят уста» — вот и выписываю буквицами тот самый избыток. Не понимаю, что так задело старого поэта, ему это знакомо, лучше меня.
— Да уж задело! Он признался, что как почитал отрывок текста, на него такая зависть накатила, он и сам не рад. Я ему предложил в храм на исповедь сходить, так он от меня как ужаленный сбежал.
— Вот оно что!.. Старый боится расстаться с любимыми демонами. Надо что-то делать. Он сам уже не может. Слушай, у меня есть знакомый монах, так он отчитку практикует. Может Палыча к нему отвезти?
— У меня тоже есть такой, и я ему предложил съездить, так он стал натурально бесноваться. Нет, тут надо что-то другое. Может, легонечко по репе, скрутить, да и в багажнике на отчитку оттарабанить?
— Нет, не пойдет. Так можно совсем старого сломать. У меня есть другое предложение. Давай сговоримся молиться за него сугубо, каждый день. Ну и по монастырям поездить, всюду записки подать на длительное поминовение. Это будет посильней «Фауста», как сказал великий кормчий.
— Согласен. Давай с вечера и начнем. И так сорок дней.
— Давай.
— Слушай, Сергей, а можно и мне слегка почитать из тебя? Даже самому интересно стало.
— Вообще-то книга еще не закончена, я и сам не знаю, о чем буду писать дальше… Но давай. Может, подскажешь чего. А лучше поругай, всё больше пользы.
Сергей подключил к ноутбуку принтер и распечатал три десятка страниц. Уложил в картонную папку и протянул мне.
— Если не секрет, откуда такая роскошь? — поинтересовался я не без ехидства.
— Так это, директору писал доклады, речи, выступления. Его прежний спичрайтер на пенсию вышел, да и не перестроился дед. Как-то я от имени трудового народа выступил на собрании, всем понравилось — вот и предложил мне директор готовить тексты, да еще списанный комп с принтером с барского плеча пожаловали-с.
— То есть, всё за счет собственного таланта, всё своим трудом! Еще немного, и начну гордиться, что знаком с тобой.
— Скромно промолчу…
Ужасно захотелось вот так сразу открыть рукопись и начать с первой страницы, но сдержался и предложил вернуться к столу. Не успели мы допить чай, как в прихожей раздался звонок. Сергей проворчал: «То за месяц никого, то за сутки трое!» и впустил в дом Романа. Я с ним как-то знакомился, но пообщаться душевно пока не получалось. Да и сейчас Господин оформитель, как он себя величал, спешил. Он сходу развернул сверток, из вороха оберточной бумаги извлек небольшую икону, поставил в красный угол.
— Кстати, уже освятил. Простите, господа, мне сегодня еще одну икону доставлять заказчику. Знаю, Сергей, денег у тебя нет, поэтому заеду как-нибудь позже, когда появятся.
Я достал кошелек, извлек несколько купюр и протянул Роману.
— Плачу за Сергея, он мне сегодня от своего творчества подарок сделал, так что будем считать, в расчете.
Вот за что еще уважаю Сергея, он не стал кокетничать, оскорбленно отказываться от милостыни, просто кивнул согласно и шепотом поблагодарил обоих.
Роман суетливо заспешил, трясущимися руками, измазанными синей и желтой краской, открыл замок и убежал. Я оглянулся на Сергея, тот задумчиво глядел на закрытую входную дверь и чуть заметно сокрушенно кивал головой.
— Не нравится мне Роман в последнее время. Никогда таким не был. Я любил бывать у него в мастерской — он всегда заражал своим спокойствием. Придешь к нему, бывало, дела бросит, шлепает на кухню, чистит любимую селедку-залом, варит картошечку, режет кольцами сладкий красный лук — ему благодарные попы из села доставляли. Я рассматриваю картины, иконы, листаю альбомы, слушаю классическую музыку, бардов, монастырские песнопения. Я наслаждался покоем, тихими мелодичными звуками, запахом краски. А сам хозяин — добрый, какой-то закругленный, плавный. Таким он был раньше…
— Именно таким он и мне запомнился. Роман — джентльмен, в изначальном смысле слова. Первая часть слова gentle — означает мягкий, нежный, благородный, кроткий, слабый — именно таким он и был, таким мы его любили. Как думаешь, кто заставил его измениться?
— Да есть у него компания коллег, которых он стесняется. Никогда ко мне не приводил. Только однажды оказался в его районе, зашел в гости и там увидел этих мужиков. Тебе известно такое выражение — мутный человек? Так вот, те двое производили именно такое впечатление. То Ромка был разгильдяем, в хорошем смысле слова, ну, то есть бессребреником. Он даже развивал у меня в гостях такую теорию: художник должен быть нищим и голодным, тогда Господь подаст ему творческую благодать, вдохновение. А в тот раз я услышал разговоры о ценах на картины, которые готовы платить зарубежные меценаты. И, знаешь, Ромка так заинтересовался, аж преобразился — стал таким, каким ты его сейчас видел: суетливым, с дрожащими руками, горящими глазами. Он на меня посмотрел так, что я поспешил откланяться и ушел весь в растрепанных чувствах.
— Послушай, Серег, а что у него в семье творится? Может, оттуда идет первичный импульс?
— Да, очень может быть. Его маменька недавно преставилась. Она была дворянкой, ненавидела торгашей и вообще разговоры о деньгах. Это маман внушила такую идею: быть выше черни с ее жадностью и обжорством, а все силы отдать творчеству. Она ненавидела его жену, за глаза назвала рыночной хабалкой. Но та при свекрови была тише воды, боялась ее, особенно глаз — ну, знаешь, этот взгляд сверху вниз, ледяной, презрительный, но при этом вежливая речь и вкрадчивый голос. А-а-а как свекровь умерла, так жена Ромки и стала его потихоньку попиливать: дети растут, их одевать надо, ремонт нужно сделать, дачу расширить, а то халупа, смотреть страшно и перед людьми стыдно. Роман как-то накушался самодельного хлебного вина, расслабился, рассупонился и всё это мне выложил, со слезами… Я ему про себя напомнил, про то, как жена нашла богатенького мужичка, да и к нему слиняла. Зато я сейчас никому неподсуден, никто не пилит, денег не требует. Он глянул на меня как на предателя, закричал, что у него дети, он живет с этой хабалкой ради них и обязан терпеть. Ну а я что! Налил ему еще и уложил спать на диване. Жене позвонил и успокоил, мол, устал Ромка, у меня остался. Так она меня такими словами отблагодарила, я такого отборного мата еще не слышал, даже в рабочей среде. Потом как-то всё успокоилось, Ромка стал прежним, а сегодня, как говорится, никогда такого не было и вот опять. Какие будут предложения?
— Попробую помочь горемыке. Ну там, картины могу купить, может даже персональную выставку устроить. Сегодня за деньги это возможно. Только вот, согласится ли он? Мамины дворянские гены не помешают?
— Думаю, после событий последних месяцев, он смирится и примет любую помощь. Я поговорю с ним. А, вообще, Платон, понимаешь, Ромка и деньги — это настолько несовместимые вещи! Это так больно, так ненормально!
— Как раз это понятно, сам страдаю на вышеуказанную тему.
— Я ведь помню, каким он был счастливым, когда писал иконы для сельского храма! Да он как на крыльях летал! А когда вместо гонорара поп ему свою подержанную «восьмерку» отдал — Рома от счастья чуть не захлебнулся. Кстати, ездил я с ним в то село. Так что узнал — батя под роспись храма получил от местного коммерса три миллиона. Это мне тамошняя бабуля церковная проговорилась. Уж больно она нашего Романа полюбила, переживала за него, помогала чем могла, у себя поселила, кормила своей картошкой. А Ромка писал собственными красками, что остались от прежних заказов. Даже подмости своими руками сбивал из какой-то рухляди с помойки. Так что в итоге, поп себе «мерс» трехсотый справил, дом кирпичный отстроил, а Ромке старенькую «восьмерку» за ненадобностью отдал. Но Ромка был счастлив! Думаешь, не знал о поповских махинациях? Всё он знал и всё видел! Но он так гордился росписью храма, иконостасом — всех друзей туда свозил. И ни слова о деньгах, ни полслова! Вот какой он был. Раньше.
Мы допили чай, надолго замолчали. Не хотелось говорить о деньгах, о всеобщем ограблении народа, о духе торгашества, проникающем во все щели нашей некогда простой незамысловатой жизни. Наконец, представилась возможность освободить хозяина от незваных гостей, я откланялся и вышел из дома.
Наступление по фронтам
В течение 20
июля наши войска
продолжали
развивать наступление
Из сводки Совинформбюро
Следующий день мы с Сергеем посвятили посещению монастырей. Подавали записки с именами: Роман, Павел (более известный мировому сообществу под именем Палыч), Ирина (Инесса), Марина (Маришка), мы с Сергеем и, конечно, Юрий. На нас обрушился целый комплект препятствий, что убеждало в истинности намерений. Погода менялась каждые полчаса, то поливал ливень с градом, то наступал мертвый штиль с горячим солнцем. Такси пришлось менять трижды, каждый раз водитель не дожидался нашего возвращения, мы возвращались к пустой стоянке и ловили следующую машину. Попадались только такие таксисты, кто не знал города, поэтому приходилось плутать, проезжать мимо цели, возвращаться. Сергей всю ночь провел за компьютером, поэтому в такси каждый раз засыпал, его приходилось расталкивать, поить крепким кофе из термоса. На подъезде к третьему монастырю такси вообще остановил дорожный инспектор, нам пришлось выйти из машины и полтора километра идти под дождем. Конечно, вымокли до нитки.
Вошли в храм древней обители в облаке пара, исходящего от нашей одежды. А тут еще на нас упал яркий свет из окна. Видимо служивые приняли нас за святых в нимбе или за привидения, их руки приготовились к крестному знамению, спины к поклону, колени к падению на пол — но мы объяснили им, что попали под дождь, который в миру хлещет как из ведра, они разочаровались и отвернулись — так и не сподобились чуда, не о чем будет рассказать соседкам на лавочке у подъезда. Но как мы молились, как естественно падали на колени и возжигали свечи!
С какой ненавистью смотрели на нас тетки, когда мы подавали записки с деньгами! А одна вообще отказалась брать в руки записки, набранные и распечатанные на «бесовском аппарате», я указал на прилавок за ее плечами, сказал, что все книги, иконы и деньги, которые она не брезгует брать в руки, тоже изготовлены с помощью компьютера, но тетка уперлась, набычилась и отвернулась. Я взял наши записки с деньгами и нашел дежурного священника. Он выслушал меня, взял записки и обещал лично передать их в алтарь, а на тетку советовал не обижаться, на них враг посылает особые искушения, и если прогнать, то на ее месте может оказаться нечто более агрессивное. Всё это бодрило и вселяло самые высокие надежды — мы на правильном пути, перемены к лучшему не заставят себя ждать.
Пожертвовал автомобиль Сергею, отпустил его домой, к пишущему инструменту — под конец операции он ощутил тонкие вибрации вдохновения. Покинув автомобиль, я сразу оказался на сиденье огромного внедорожника — Юра «чисто случайно» выследил мои перемещения, видимо по мобильнику, и решил пригласить в свой офис. Как и Сергея, старого друга, охватило таинственное волнение, его распирало от идей.
— Во-первых, когда мы с тобой расстались в лесу, я решил наведаться в лесной монастырь.
— Тебя там приняли? — удивленно спросил я.
— Еще как! Сам настоятель отец Иосиф вышел навстречу, и кое-что рассказал о тебе с Ириной. Ему удалось убедить меня, что вы круто изменили жизнь и прежними уже не будете.
— По-моему, я тебе это пытался объяснить в лимузине Чайка, под пристальным наблюдением затылка твоего куратора из конторы.
— Да я тогда лишь озадачился, но когда поговорил с монахом, всё встало на свои места. Я тебя понимаю и целиком на твоей стороне.
— Что же, спасибо тебе и нашему общему теперь знакомому. Но это было «во-первых», а что дальше?
— Отец Иосиф уговорил меня пойти по твоим следам и тоже… это самое… стать православным. Оказывается, раньше я им не был.
— И об этом говорили с тобой не раз, только всё мимо. Помнишь, когда ты впервые показал мне своё собрание икон? Я к тебе обратился «брат мой», а ты ухмыльнулся мне в лицо: «Ты чего, я, вроде, не фанатик, не кликуша, вроде тебя, а нормальный...» вероотступник.
— Ну да, было что-то вроде того. — Кивнул Юра смущенно. — Слушай, что значит разговор с монахом! Каждое слово, будто душу прожигает — вот это сила! Словом, хочу быть как ты!
— С нечистым нос к носу встретиться? В аду побывать?
— Э-е-е, нет, в ад не хочу. А что вы и туда сходили?
— Сходили… Врагу лютому не пожелаю туда попасть хоть на миг. Зато после наш провожатый ангел поднял нас в царствие Божие — вот это, я тебе скажу, здорово! Правда, Ирину туда не впустили — пока недостойна. Ей много предстоит сделать, поработать над собой. Поэтому и сбежала.
— Да-а-а, как всё не просто у вас… у нас. Ну ладно, вот моё предложение — летим! И не куда-нибудь, а сразу во Святую землю.
— Когда?
— Завтра, чего тянуть. Билеты я уже заказал, кстати на всякий случай три. Можешь взять с собой кого-нибудь, например Ирину, или эту свою соседку чокнутую — Маришку, что ли.
— Нет, они еще не готовы: Ирина в бегах, а Маришка в запое. Лучше Сергея! Ночью почитал его книгу, нынеписуемую — это будет шедевр. Представляешь, простыми словами парень излагает сложнейшие богословские тайны на примерах из нашей реальной жизни. А для этого, знаешь ли, кроме таланта нужно иметь вдохновение и, пожалуй, смирение.
— Вот и отлично, позвони Сергею, предупреди. А сейчас будет «в-третьих».
— Не слишком ли много для одного дня?
— Сейчас поймешь. Это для твоего же спокойствия, чтобы наше дело не стояло на месте. Значит так. Помнишь, как забуксовала твоя идея насчет доступного жилья?
— Как же, забудешь такое! Стоило мне построить только два загородных дома и продать по минимально возможной цене, как на меня посыпались угрозы, что убьют, что отнимут бизнес и все такое…
— Тогда у нас не было такой шикарной материальной базы, я имею ввиду мильонов денег. Правильно, ты со своим дешевым жильем пошел на демпинг цен, а это самое страшное преступление в строительном бизнесе. Ты знаешь, что строительство, наряду с торговлей оружием и наркотиками, самый криминальный бизнес. Квадратный метр стоит сто долларов, а продается за тысячу — за такие сверхприбыли могут и войну начать. У меня по этому поводу вот какая идея. Мои орлы уже нашли с полсотни безработных плотников по селам-деревням, они продемонстрировали свое умение делать срубы из строевого леса. С ними заключили договора, выдали аванс, так что они уже приступили к заготовке срубов трех типов. Наши риэлторы скупили бросовые земли загородом. Значит, строим поселки, одиночные дома и целые виллы, а продаем их — официально — по сложившимся ценам. Но тут есть уловка! Продаем в рассрочку на 99 лет. Я этот приёмчик в Швейцарии подсмотрел — там виллу на берегу Женевского озера можно купить в рассрочку за доллар в месяц, правда на тебе ремонт и поддержание порядка, что стоит тысячи тысяч, но это как говорится потом. А у нас так: в случае невозможности выплачивать кредит, оформляем дарственную. Так мы и реализуем твою идею доступного жилья. Сам понимаешь, приобретателями станут православные многодетные семьи, семьи пенсионеров силовиков, детские дома.
— Постой, постой, Юра! Эк, тебя понесло! Думаешь, твою хитрую схему никто не раскусит? Думаешь, законспирированный демпинг конкуренты не раскроют?
— Очень даже возможно. Только и мы кое-чему научились. Во-первых, оформим как федеральную программу помощи ветеранам спецслужб, а во-вторых, этот бизнес будут крышевать, как сейчас говорят, сами же силовики. И уж ты поверь, они сумеют защитить свои дома, свои семьи. В конце концов, мы возвращаем народные деньги тому самому народу, у которого они украдены.
— Ты только больше никому об этом не говори. Сегодня это самое страшное преступление.
— А за такое доброе дело и жизнь отдать не жалко!
Подвинул к себе тяжеленный спец-телефон, который должен выдержать взрывную волну и отсечь возможность прослушки, сообщил Сергею о паломничестве во Святую землю. Он не удивился, сказал, что нечто подобного ожидал, учитывая наш круиз и все искушения, которые пришлось преодолеть. Да, загранпаспорт имеется, завтра буду в Шереметьево как штык.
Юра вызвал водителя, велел отвезти меня домой. Но и дома искушения продолжились. Моя входная дверь была распахнута, а в прихожей катались, вцепившись друг другу в волосы, Инесса с Маришкой.
— Он не твой, он мой мужчина! — вопила одна.
— Да кто ты такая, малявка! Мы с Платоном с детства жених и невеста! — пыхтела та, что постарше, но такая же глупая.
— Ага, невеста с того света! — не унималась та, что помоложе. — Ты же старая, как баба-яга, а за мной будущее!
Я покашлял, обозначив своё присутствие. Женщины отскочили друг от друга и смущенно заулыбались, пригладив ладошками волосы и одежду, пытаясь привести себя в порядок.
— Как вошли в дом? — сурово начал допрос тоном терминатора за нумером два.
— Да это я, по-соседски отпечатала ключи на пластилине, как в шпионском кино, и сделала себе комплект, — как ни в чем не бывало, пояснила Маришка. — Мало ли что может случиться — ну там, потоп или пожар, или окочуришься — а у меня запасной комплект ключей! Всегда на помощь приду, и дверь ломать не придется.
— Значит, придется менять замок, — проворчал я.
— Я бы не спешила, — пропела тоненьким голоском Марина. — Знаешь, у меня на старой квартире один моложавый старичок профессор загулял. А его разведенная жена с дочкой переполошились, что он не отвечает на звонки, и приехали узнать — жив ли? Так мы с этими швабрами и с участковым часа два ползали под его дверью и нюхали воздух — нет ли запаха тления, разложения, гниения. Запаха так и не учуяли, зато профессор пришел и как стал кричать! Молодой участковый чуть в штаны не надул, все извинялся, бедолага. А эти его истеричные тетки — я так и не поняла, кто из них жена, а кто дочь, обе какие-то облезлые — такого стрекача задали, аж пыль с пола подняли. — Уничтожающий взгляд в сторону Ирины. — А мы со старичком к нему забурились и так славно вискаря надрызгались! Ну и это… тоже было… Такой брутальный старичок оказался, такой шалун! — Она глянула в мою сторону, намекая на что-то аморальное, что планировала на мой счет.
Покачав сокрушенно головой, повернулся к Ирине, спросил:
— Ну а тебя, что заставило прервать побег и прийти ко мне домой?
— Твои конторские супермены все мои счета заблокировали. Мне даже не на что билет купить с тощим вокзальным пирожком.
— А сколько их у тебя? — спросил я, хлопая по карманам в поиске телефона.
— Да как у всех: два рабочих и два личных, в эСБэ и швейцарском Суисс Эй Джи, — сообщила Ира, с вызовом глядя на нищую соперницу в драном банном халатике.
— Юра, ты что, на самом деле заблокировал счета Ирины? — спросил я в телефон.
— Сегодня разблокировал, — успокоил он меня. — Закончил операцию, отчитался и вернул деньги, конечно, кроме явно криминальных. А что, нашлась волчица?
— Не стоит её так называть! Ладно, прости. — Ирине: — Счета разблокированы, можешь жировать дальше.
Ирина, бросив презрительный взгляд на поникшую Маришку и на меня, вихрем вылетела из квартиры. Я взглянул на соседку, со вздохом протянул ей денежную купюру и кивнул в сторону выхода. Она на цыпочках удалилась.
Глядя на сутулую спину девы с торчащими лопатками под стареньким халатиком — она медленно, оглядываясь на каждом шагу, ожидала окрика. Сердце сжала острая жалость, я чуть слышно окликнул:
— Марина, задержись на секунду.
Она вздрогнула, обернулась с улыбкой до ушей и в два прыжка встала предо мной, как лист перед травой.
— А я знала, что окликнешь! Знала, что любишь, ведь у нас впереди большая красивая жизнь!
— Отставить сладкие мечты! Не знаю, как у вас, а у нас тут война… духовная. И это тебе, Маришка, не праздник, а трудные, жестокие, военные будни.
— А я готова, товарищ комиссар! С тобой, Батон, то есть Патрон… ой прости, Платон! Все никак не выучу… Так я о чем… А! С тобой — хоть сейчас в бой!
— У меня полторы минуты, поэтому прошу не перебивать, — прохрипел я подобно «комиссару в пыльном шлеме». — Я сегодня кое-что предпринял, поэтому жди перемен. А чтобы всё было благочестиво, тебе надлежит сделать следующее. Слушай и запоминай. Трезвой, в приличной одежде сходи вечером в церковь. Встань в очередь исповедников. Подойдешь к священнику, скажешь, что ты впервые желаешь исповедаться. Он тебе посоветует, что сделать, ты аккуратно выполнишь его указания. Потом приготовишься к Причастию, тоже по совету священника. Начнешь читать Евангелие, книжку на тему «Как вести себя в церкви», — я взял с полки книги и протянул девушке. — Понимаю, мои слова ты вполне можешь забыть, пропустить мимо ушей. Но! Эти мои слова, они как семя упадут на иссохшую землю твоей души. Если ты всё сделаешь, как я сказал, из семени прорастёт росток, потом превратиться в прекрасное дерево. Потом вырастишь целый сад — райский сад. И уже на земле станешь жить как в раю.
— Здоровски! Я уже хочу!
— Да, здорово, да, хочешь — но как только приступишь, как только сделаешь первый шаг, так и познакомишься с противодействием сил зла. Нападет апатия, лень, захочется выпить, погулять напоследок — всё такое. Так ты уж напряги всю силу воли — вот тут и понадобится твое желание ринуться в бой, в атаку на врага. Только враг твой будет невидим, даже ласков, он шепотом тебя станет отвращать от добрых дел. И может статься, что опустишь руки, загуляешь, а душа твоя совсем высохнет и очерствеет. Семена моих слов так и останутся валяться на поверхности сухой души. В этом случае, Господь прольёт влагу, чтобы семена не погибли. Сакральную влагу…
— Это что-то очень неприличное? — усмехнулась она. — Ну, раз сакральную?
— Наоборот! — прохрипел я вполне серьезно. — Это будут слёзы или кровь. Именно эта влага оживит семена моих слов. Но повторяю, это произойдет в случае, если у тебя не хватит сил добровольно встать, выпрыгнуть из окопа — и в атаку в полный рост! Но произойдет! Но если не хватит сил. Всё, дитя, ступай с Богом. Всего тебе самого доброго. А мне пора собираться на войну мою, персональную. И ты мне в этой войне пока не помощница. А сейчас, прошу освободить помещение. До свидания! — Повторил прощальный жест подбородком в сторону открытой двери.
Марина, продолжая улыбаться и на каждом шагу оглядываться, наконец, вышла из студии и заскрипела ключом в замке своей двери. Бросив прощальный взгляд на соседку, глубоко вздохнув, решительно захлопнул входную дверь.
Ну кажется всё, можно собирать дорожную сумку.
Часть 3. Отражение Слова
Светская часть паломничества
Проведи
тет-а-тет с Иисусом,
Поделись полосой
неудач,
Нескончаемым
жизненным грузом
Нерешённых
проблем и задач.
О.
Дрожжина
Первое, о чем подумал, пока просыпался, нет-нет, со мной явно что-то не так; второе — слава Богу за всё, что и вернуло меня на землю, чего не очень-то и хотелось. После контрастного душа, облачения в одежду, аккуратно расстеленную вечером по пустой стороне кровати, приготовления кофе, раздался звонок-команда спуститься совсем вниз, совсем на землю, на ее асфальтовое покрытие. Юра любезно прихватил нас с Сергеем по пути в аэропорт имени графа Шереметева. Бросив беглый взор на сопутствующих друзей, поняв, что их тоже «подняли, но не разбудили», малодушно успокоился, не я один тут квелый.
Ночью «тянул четки», да так увлекся, что и не заметил, как наступило утро. Как часто это бывает со мной, особенно в последнее время, особенно после погружения с последующим восхождением, да… мне удалось совершить разведывательный полет к месту назначения. Там я летал над чужой пустынной землей, от одного светлячка отражения к другому, различая во свете нечто родное, до боли знакомое, но вот беда, внимание рассеивалось на тысячи незначительных деталей, поэтому поставил себе задачу: максимальное направление вектора внимания — внутрь сердца, в ту сакральную область, откуда произрастает древо жизни, моей жизни, моей любви. И нынешнее наше полусонное состояние тому весьма содействовало.
Может быть именно поэтому, целые куски времени, потраченные на суету, выпадали, затягиваясь прозрачным туманом молитвенно-чувственной пульсации. Таможню прошли по зеленому коридору, лишь мой термос возбудил у пограничников подозрение — уж не бомба ли это? Пришлось отвинчивать крышку и плеснуть им пятьдесят грамм содержимого, от чего по приземным пластам удушливой атмосферы разлился бодрящий аромат крепкого кофе. Самолет марки Боинг с кучей семерок, голубой шестиконечной звездой и логотипом El al на борту намекнул на то, что мы находимся на территории государства Израиль. Меня как ребенка посадили к иллюминатору, а чтобы заглушить ностальгию, накрывшую нашу троицу, Юра откинул центральный столик, водрузил на него ноутбук, включил любимый космонавтами и советским народом фильм «Белое солнце пустыни».
И всё — не стало кучевых облаков за окном, пепельно-грязных гор и фиолетовых морей в разрывах белесой пены, тошнотворного запаха желудочного сока в салоне, пластмассовых улыбок премиленьких стюардесс, гула двигателей — с экрана мониторчика наплыл покой, мелодичное звучание струн арфы, балалайки, дыхание аккордеона и знаменитый сон товарища Сухова, в котором он писал мысленные письма любимой жене с коромыслом на округлых плечах в родную деревню, утопающую в сочных травах, омываемую прозрачной речкой, осененной нежной березовой листвой.
«А еще скажу вам, разлюбезная Катерина Матвевна, что являетесь вы мне, будто чистая лебедь, будто плывете себе, куда вам требуется, или по делу какому, даже сказать затрудняюсь... только дыхание у меня сдавливает от радости, будто из пушки кто в упор саданул.»
Юра молча протянул носовой платок, я промокнул щеку и смущенно отвернулся к иллюминатору. Такой нетипичный приступ сентиментальности случился потому, что на секунду мысленно перелетел в «мою» деревню к прекрасной женщине, доказавшей мне аксиому, в которой начал сомневаться — есть еще женщины в русских селеньях.
Знакомство наше произошло по классическому сценарию. Пылил по проселочной дороге в жаркий летний день. Очень хотелось пить. За оградой, увитой диким виноградом, рассмотрел женщину в алой кофте. Попросил воды, она напоила жаждущего, пожалела и пригласила отдохнуть в тени роскошной яблони — видимо, насквозь пропотевшая пыльная одежда, лицо в грязных потеках, воспаленные глаза — весь этот жалкий антураж — вызвали у нее чисто материнское движение души: напоить, умыть, переодеть в чистое и накормить.
Завершив непонятный мне производственный сельскохозяйственный процесс, связанный с консервацией плодоовощных культур, Маруся убедилась, что я перевел дыхание, успокоился, да и повела баньку, заставила снять одежду и ополоснуться из огромного деревянного ведра, протянула чистую сухую мужскую одежду, которая была чуть великовата, но вполне себе ничего. Пока я предавался санитарно-гигиеническому блаженству, огляделся. Огромные ведра с водой, которые называют в народе кадками, стояли повсюду, над ними на белых веревочках висел гербарий, составленный из дубовых, березовых и еловых веников. Как потом объяснила хозяюшка, такой уж завел порядок супруг-покойник, который сначала хлестал себя березой, потом дубком, ну а после, как совсем распарится, тогда легонечко гладил телеса хвоей — как велел мужик, так и она все проделывала… и до сих пор.
Супруг Маруси — Тимоша — как колхоз стал понемногу рассыпаться, с мужиками стал ездить в Сибирь, на заработки. Несколько лет все было нормально. Привозил домой денюжку, гостинцы, да про всякие разные места диковинные рассказывал. А в последний раз собирался на заработки и всё приговаривал: хочу машину купить, чтобы тебя возить на рынок, да в магазины, а еще в кино, прям как барыню. Я, конечно, пенять стала, мол, зачем она нам, мы вроде и так справляемся, только Тимофей Игнатьич у меня мужчина самостоятельный… был, что пообещает, то уж точно выполнит. Ну так вот, приезжают мужички наши из Сибири, а моего Тимошеньки с ними нет. Сказывали, что поехал за машиной на границу с Китайцами, там, значит, они хоть и с правым рулем, зато подешевле, по доступной цене. Ждала его месяц, другой, а потом надоумили меня в область съездить и заявление подать, о пропаже человека. Ну что, подала, приняли бумагу, конечно, только молодой лейтенантик сказал по секрету, что сейчас это эпидемия такая — уезжают мужички за машинами, да почти никто не возвращается. Там у них, сказал, целая мафия, никого не жалеют, так что ты, тётьМарусь, лучше в церковь сходи, да свечку поставь, говорят, помогает, а по заявлению твоему, сказал, даже ничего и делать не будут, у нас целыми пачками их несут, да толку никакого — мафия...
А как в церковь сходила, да поплакала всласть, батюшке все рассказала, все как велел сделала — и, представляешь, Платоша, снится мне ночью мой благоверный — веселый такой, будто не покойник, а жених на свадьбе. Улыбается и ласково так говорит: «Не ищи меня, Маруся, утоп я вместе с машиной в реке, да унесла река нас с машиной в море и упокоила на дне морском, как моряков настоящих. Ты не ругай меня за ту машину, уж очень хотелось покатать тебя, а то все на ногах, да на ногах, а разве ты не заслужила, чтобы и тебе хоть что-то хорошее в жизни перепало. Ведь ты у меня самая лучшая жена на свете, самая красивая и добрая. А еще, — говорит, — меня в хорошее место определили. Здесь все как у нас в деревне: дома просторные, цветочки, деревья зеленые, птички поют-заливаются. Я и для тебя место приготовил, такой дом большой выстроил, как придешь сюда, сама увидишь — словом, красота! Так что не горюй, Маруся, скоро опять вместе будем, Бог милостив и очень любит простых трудовых людей, мы для Него как дети любимые.»
Проснулась в ту ночь, подушка вся мокрая от слез, а сама улыбаюсь, как только что мой Тимоша. Так вот и смирилась я, успокоилась. Правда в церковь стала ходить не как раньше, только в праздники, а каждое воскресенье, и так мне там любо, будто в раю, в гостях у покойного мужа. Раньше-то не знала, как себя вести, как пенёк стояла, да вокруг смотрела. А теперь, встану у канунника, помолюсь от души за покойников моих, за Тимофея, за себя, убогую, и так хорошо становится, так светло на душе.
Не сразу всё Маруся рассказала за один присест, а по чуть-чуть — дел у крестьян круглый год невпроворот. Это я понемногу стал ей помогать, окуней ловил, картошку копал, огурцы помогал солить, а она все время при делах, только ни слова жалобы, ни укоризны, ни насмешки надо мной, городским неумехой. Я ведь в то лето разругался со всеми, обиделся, ушел из дому, а она меня пригрела, успокоила, примирила. Еще трижды приезжал к Марусе, а потом всё — умерла, а дом свой мне завещала. Когда народ из деревни стал разбегаться, оставшиеся там старички попросились ко мне в работники. Я тогда стал зарабатывать прилично, так что послал строителей своих, оплатил материалы, денег подбросил — так и появилась у меня «моя» деревня, только ездить туда часто не получается. Но уж как приеду, словно в райский дом к Марусе с Тимофеем в гости наведаюсь, но редко, очень редко.
Всё это промелькнуло в голове, выдавило слезу и улетело, оставив в душе теплое, сладкое «послевкусие». Взглянул в окошко иллюминатора, подумал, если мой офицерский ангел не оставил меня, где он сейчас, неужели там, снаружи, где мороз и ураганный ветер?
— Ну, а где же еще, — последовал тихий ответ Георгия, в котором уловил обычную иронию. — Впрочем, что нам с тобой эти материальные мелочи — температура, ветер, километры, часы?
— Тебе-то, конечно, — проворчал я. — А я-то еще мясной.
— Ладно тебе ворчать, «мясной»! — Опять почувствовал шутку юмора на невидимом лике того, к кому обращаюсь каждый день: «хранителю мой святый и покровителю души и тела моего». Через паузу продолжил: — Хорошо, патрон мой Платон, давай договоримся, если станет невмоготу, обращайся, подключу «режим вышеестественного состояния», так кажется, у вас говорят.
— Говорят… А знаешь, ангел мой святый, — меня озарил огонек внутреннего отражения, — вот сказал ты это, вроде бы для тебя ничего не стоящие слова, а мне стало гораздо легче. Спасибо тебе, друг!
— Полноте, работа у меня такая. Ты еще не самый нудный, бывали в моей карьере «мясные» и послабже. Так что и тебе спасиБог! Помочь тебе только в радость. А сейчас оглянись, увидишь кое-что из ряда вон.
Оглянулся и несколько оторопел: опираясь на плечо Сергея, сидевшего у прохода, покачиваясь, нависал над нами и отравлял благостную атмосферу полета Палыч.
— Не прикажете ли, друзья, — внес предложение Юра, — вышвырнуть пьяницу горького за борт? Он же своим амбре родину позорит! Наносит, так сказать, моральный ущерб репутации страны.
— Ничего с твоей родиной не будет! — возмутился Палыч. — Сегодня ее только ленивый не позорит. А раз так, значит есть в том воля Божия, сермяжная правда жизни, тотальное смирение, так сказать. Да не волнуйтесь, я не с вами, я сам по себе. Как выйдем на асфальт аэропорта, так и пойду с котомкой по Святой земле один, как перст.
— Ладно тебе юродствовать, — пожалел Юра «пьяницу горького». — Не по чину сие. Так и быть, споспешествуй, сколько сумеешь.
— Спасибо, отцы и братья! — поклонился поэт-экстремист, не стирая с лица ехидную беззубую улыбку. — Вовек на забуду, если, конечно, вспомню.
— И как мне к этому относиться? — мысленно произнес я тому, кто летел снаружи, нимало не испытывая дискомфорта от ревущего ветра и арктической стужи за бортом.
— Не чли ли в Писании от Луки: «кто не против вас, тот за вас»? — раздался в правом полушарии мозга офицерский ответ. — У поэта-экстремиста тоже есть права на паломничество во Святую землю. Сдается мне, он получит пользы не менее вашего. Так что терпите и благодарите.
Последние слова ангела раздались в утробе моей уже в минивэне, осуществляющем трансфер от аэропорта до отеля. Таможню мы опять же прошли подозрительно быстро, мимо очереди, наверное, благодаря отмашкам дипломатическим паспортом Юры и его суровой внешности. Позже он расскажет, что ему довелось поработать по линии Интерпола и здесь и в сопредельных странах, так что для него все двери открываются на счет раз. Но в те минуты, напавшего на нас с Сергеем отречения от суеты, единственное, что нас занимало, вид из окна, который мы осеняли — мысленно, конечно, — размашистыми крестами. Так же, чисто автоматически, мы убеждались в том, что страна прибытия в основном пустынная, зеленые насаждения имеют искусственное происхождение, может поэтому апельсины на деревцах вдоль дороги воспринимались как неживые, как ёлочные игрушки, зато волны песка словно оживали под «белым солнцем пустыни», приглашая пройтись и утонуть в зыбучей топи мелкозернистого кварца.
Первое, что мы с Сергеем сделали, ввалившись в номер полупустого отеля — вышли на балкон и упали в кресла. Между бетонной стеной отеля и бирюзовым морем по-восточному лениво возлегал песчаный пляж. У кромки воды, в набегающей пене, бежали трусцой двуполые пары в плавках, в наушниках, за некоторыми неуклюже плюхали по мелководью собаки всевозможных пород. Средиземное море, которое здесь называют «Медитирейниэм си», язык сломать можно. По ядовитому выхлопу, перебившему свежий морской бриз, стало понятно, что к нам подкрался поселенный в отдельном номере Палыч, но и он молчал, поглядывая на море одним глазом и записывая в блокнот рифмованные восторги с помощью второго. Сергей, пристыженный поэтом, взялся писать прозу, я же укорял себя за рассеяние, о котором предупреждал ночной полет, и взялся за четки.
Потом случилось купание в море, потом трапеза в ресторанчике, меню которого было написано по-русски, да и официантка недавно приехала из Подмосковья. От сытости и крепкого кофе приятно кружилась голова, от сильно перченой «рыбы святого Петра», в просторечье карпа, горел язык, а мы любовались крошечной березовой рощицей у фонтана, который облепили отроковицы, говорящие на суржике с вялым фрикадельным фрикативным хэ. На предложение развлечься откликнулся только Палыч, да и то в издевательской манере рифмоплета-экстремиста, после чего девы с невысоким уровнем социальной ответственности, заблажили непристойным смехом и каждый раз встречали наш путешествующий коллектив цитатами из Палыча, который в свою очередь «несколько усовершенствовал Маяковского в части стихотворения «Во весь голос»».
Дальше мы, сомкнув ряды, готовые на отражение любой провокации, двинулись марш-марш-левой вдоль по улице, в сторону от моря. На деревянных ограждениях открытых ресторанов, где из двадцати столов заняты лишь два-три, всюду висели надписи по-русски «только кошерная пища». Чуть дальше, в переулке, в мясной лавке обнаружили плотную толпу русскоязычных. Зашли, протолкались к прилавку, на котором расположились крабы, икра, свиная колбаса семи сортов, сало девяти сортов, разумеется водка, жигулевское пиво — и над всем этим едва ли кошерным великолепием две полных дамы с потными лицами и чуть выпивший мужчина, отдыхавший в углу от дел насущных — к нему-то и направился наш Палыч, бросив нам через плечо «я на минутку».
Ни в этот день, ни в следующий мы его не видели. Как говорится, «вот и встретились два одиночества». Появился Палыч на третий день, как ни странно, свежий на вид, веселый с новостью: «Я тут с десяток аборигенов окрестил. Нашел православный храм и заманил нехристей!»
Ну а мы, среди сотни лавчонок отыскали большой торговый центр, накупили сувениров, зашли в кафе обмыть покупки, пообщались там с туристами со всего света. Возвращаясь домой, плутали узкими переулками с мусором по щиколотку. Набрели на большую семью чернокожих, ожидавших автобуса, спросили по-английски, как пройти к морю, но те хором крутили головами и лепетали, как предположил Юра, на эфиопском диалекте арабского языка. На вопрос, откуда в Израиле негры, он рассказал, что это чернокожие евреи, принадлежащие одному из колен израилевых, репатриированных из Эфиопии и Судана.
Через полчаса, когда удалось выбраться из трущоб и дойти до морской набережной, мы забрели в крошечную лавку, из которой метров за десять доносился аромат приличного кофе. В лавке хозяева устроили стойку и разливали кофе из кофемашины. Держали заведение выходцы из Франции. Услышав русскую речь, принялись нас всячески издевать, на что Юра на хорошем французском провел воспитательную беседу, после чего двое молодых лавочников разом прониклись уважением и предложили на вынос свежий салат из креветок, фуагра, круассаны и кофе три раза — за счет заведения. Юра поблагодарил, взял со стойки пакет с ужином, но таки бросил на стойку три стодолларовых купюры, чем сокрушил нормандское чванство и как дядюшка Онегина «уважать себя заставил», по ходу движения в сторону отеля объяснив, что кроме высокомерия этих людей отличает параноидальная скупость, на чем можно играть, как на рояли.
Вечер провели на просторной лоджии апартаментов Юры, любуясь неоновыми красками заката, поклевывая французские деликатесы. Как стемнело, выходили из отеля купаться нагишом. Лежали на теплом пляжном песке, любовались россыпью звезд и вспоминали товарища Сухова, вполне разделяя ностальгию русского человека среди чужих песков, чужих людей, и даже бегство Палыча к коллеге по алкогольному цеху не казалось чем-то чуждым, вполне возможно, что нашел человек родственную душу.
Чтобы плавно перейти от светской части поездки к паломничеству во Святую землю, решили взять заключительный аккорд путем посещения Яффы. Все-таки именно сюда прибывали миллионы паломников со всего света, и просто невозможно не пройтись по улочкам древнего города, чтобы вдохнуть стоны и восторги паломников, напитавших камни, да и сам воздух знаменитой на весь мир пристани. По мостовой с насечками, чтобы не скользили лошадиные копыта, мы спускались по узким улочкам к воде, стояли на набережной, созерцая тысячи кораблей, приставших к этим старинным причалам, слушали крики людей и чаек, видели сотни карманников, грабителей, сновавших в поисках добычи — мысленно, конечно. Хотя, причем тут мысли, когда такого рода прозрения происходят не в мозгу, а где-то глубже, на уровне, даже не души, а духа.
Женщина с ранними морщинами на усталом опухшем лице, как это здесь принято, сначала рассказывала, как хорошо им здесь живется, потом коснулась трудностей в поиске работы и овладения языком, потом прошлась острым язычком по тем русскоязычным иммигрантам, которые здесь не прижились, сбежав от вполне объяснимых трудностей в «совок». Назвала несколько звучных фамилий «предателей великой идеи», отругала нас за то, что перестали отмечать коммунистические праздники, мол, такую хорошую революцию наш народ вам устроил. Ну а потом, узнав, что мы православные, приступила к традиционному богохульству и откровенному вранью. Юра просил уточнить: если, как вы говорите, таких равви-учителей, как Иисус Христос, было тысячи, может назовете хотя бы одного — не тысячи, а одного — храмы в честь которого стояли в каждом городе земли и количество учеников исчислялось миллиардами. Не дождавшись ответа, записал ее фамилию, имя и название турфирмы, пообещав лично проследить, чтобы к русским туристам ее и близко не подпускали, на прощанье назвал количество жертв «хорошей революции», осенил ее крестным знамением, от чего ее перекосило, и мы оставили группу экскурсантов под предводительством мутной тетки. С нами вместе отошли еще несколько человек, и мы продолжили экскурсию вполне самостоятельно.
На выходе из Старой Яффы на площади заметили накрытый полиэтиленом вход в подземелье. Заплатили какие-то небольшие шекели, к которым еще не привыкли, и спустились по крутым ступеням на глубину трех метров. Из темного угла подземных катакомб к нам подошел мой сосед, который продал Маришке или ее родителям квартиру с номером на единицу меньше. Честно сказать, узнал я Михаила Аркадьевича не сразу, уж больно исхудал и кожей почернел, бросился мне на шею и обнял меня он первым, как родного, правда, пришлось напомнить моя святое имя. Радостно сообщил, что нашел здесь работу, вполне научную, только «платят, скупердяи, маловато», зато в прохладе. Он схватил меня за руку и потащил в сумрачную даль, где он лично откопал древнюю мостовую возрастом около двух тысяч лет. Так вот камни, по которым ходили апостолы! Значит, мы давеча хаживали по иссеченным мостовым, которые находятся на поверхности так называемого «культурного слоя» высотой более трех метров! Значит, нужно всегда иметь ввиду эту «культурную» поправку! Однако…
Юра спросил, кто у него начальник, Михаил указал на молодого парня, бандитской наружности. Юра спросил, сколько стоит забрать нашего друга на пару часов. Сначала, как водится, босс принялся объяснять, насколько его подчиненный ценный кадр, потом, видимо понял, что придется такому кадру повысить зарплату, и произнес цифру в триста шекелей. Потом покрутил черный завиток грязных волос и сказал на суржике с «фрикадельным хэ», что вообще-то лучше пятьсот. Юра протянул одесскому «археологу» сто пятьдесят долларов и вывел Мишу из катакомб наружу. Михаил умылся у выхода под струей теплой ржавой воды и, подпрыгивая от возбуждения, повел нас в ближайшее приличное заведение.
Первые полчаса он жадно ел хумус в прикуску с чесночной колбасой и пучком зелени. Вторые полчаса рассказывал, как доволен тем, что вырвался из «совка» на свободу. Потом выпил водки, пустил слезу и на одном выдохе рассказал, как тяжело ему здесь приходится, называя местных такими словами, которыми используют лишь «зоологические антисемиты». Я сказал, что Маришка процитировала мне кое-что из его писем, мол, «знаю, милый, знаю, что с тобой, потерял себя ты, потерял…» Михаил обозвал мою соседку нехорошим словом и, глянув на Юру, на меня и на Сергея взглядом узника концлагеря, попросил помочь вернуться на родину… не предков, а на родную «совковую». Добавил, что его Мариам, которая в совковом девичестве, помнится именовалась Мария Семеновна, смертельно устала и близка к самоубийству. Поначалу он не очень обращал внимание на ее нытье, но угрозу покончить с собой супруга стала повторять ежедневно, и вот… Всё, терпение кончилось, надо драпать.
Юра расспросил о научных степенях бедолаги, теме диссертации, поцокал восхищенно и предложил такой выход: он поможет семье вернуться на милую родину, но с одним условием — работать на него в качестве руководителя научной группы с приличным окладом, а жилье семья получит в рассрочку на двадцать лет, с заселением сразу. И еще — мы тут все православные, так что надо будет и тебе воцерковиться. Как ты? Михаил Аркадьевич заёрзал, трижды подпрыгнул и, чуть не разбив лоб о стол, размашисто кивнул: согласен! Кстати, есть еще вариант, задумчиво произнес Юра, открыть здесь филиал и возглавить его. Нееееттт! — вскричал Михаил, не хочу! Домой, только домой! Ладно, хорошо, успокоил профессора Юра, домой так домой, вышли мне ксерокопии всех документов. Проводив Михаила до места службы, тепло попрощавшись, Юра сказал нечто эпохальное:
— Только для того, чтобы еще больше полюбить родину, следовало сюда приехать! — Потом добавил: — А ведь после таких ударов судьбы, наш Миша будет работать как герой труда, да и мозги его нам пригодятся, так что мы все не в накладе.
— Так, всё, завтра приступаем к паломничеству, — сказал я. — Хватит рассеиваться и растекаться по древу.
— А я, к слову сказать, и не рассеиваюсь, — произнес Сергей. — Каждое слово, каждый шаг по Святой земле — всё в книгу! Это ж какой вкусный материал вырисовывается!
— Что получил, «мясной»? — прозвучал немой офицерский вопрос в правом полушарии моего усталого мозга. — Три к носу, как говорил наш бомбардир.
— Прости, брат, — прошептал я чуть слышно. — Ты прав, здесь только я один растекаюсь.
— Ничего, ничего, и это на пользу, — еще тише чем я, произнес Сергей, который, кажется, расслышал мое бурчание. — Так что держи пистолет хвостом!
Via
Dolorosa, Иерусалим
По улице Скорби
иду на Голгофу,
и падаю снова,
и снова встаю…
Н.Куракин
Зачем приехали сюда мои попутчики, примерно известно. Юра — «подтянуться» в духовной жизни, догнать меня, нас; Сергей — написать о впечатлениях главу в книгу, Палыч — сам, поди, не знает, но со временем поймет. Для чего приехал во Святую землю я — вот в чем вопрос. За компанию? По команде ангела? Одно знаю точно — польза будет, и не обязательно успех, вполне может случиться и трагедия, но на пользу духовному восхождению — туда, ввысь, к Богу, к моему Иисусу, в блаженную небесную вечность. Ладно, разберемся…
Важно правильно настроить мою очень нервную систему. Взять пример с альпиниста. Вот он приступил к восхождению на вершину, напряжение мышц тела, силы воли, души — достигает предела. Думает ли он про налоги, долги, меню любимого ресторана, о программе телевидения, курсе доллара, цены на колбасу и помидоры?.. Нет, всё внимание на вершину! Не будем вспоминать расхожую фразу: «Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет» — каждый сам выбирает цель и только верность главной идее дает силы достичь цели, покорить вершину. Итак, внимание на вершину, остальное — прах.
Эти мысли сверлят мозг, пока стою в Вифлеемском храме Рождества, в очереди к месту рождения Спасителя. Как ни стремлюсь углубиться в молитву, глаза рыскают по сумрачным объемам базилики, по закопченным колоннам, толпам горластых людей. Русскому человеку привычно богатое убранство храма, даже в глубинке, по мне, так здесь всё должно сиять золотом, сверкать драгоценными камнями, благоухать изысканными ароматами. Ни шарканье шагов, ни гомон толпы, а непрестанные ангельские песнопения должны звучать здесь. Вифлеемская звезда здесь неказистая, плита в которую она врезана — в трещинах, кроме православных лампад висят католические и армянские. Становлюсь на колени, прикладываюсь к звезде — ничего. Да что же это! Чувствую себя чурбаном бесчувственным. Ожидаю друзей, меня толкают чужие люди, раздражение растет, наконец выходим наружу, погружаемся в торгашеский гомон, отовсюду тянутся черные руки: денег дай, денег, а мы тебе продадим все что захотим, но деньги вперед. Оглядываюсь на друзей, они тоже растеряны, значит не я один такой, все нормально. Слава Богу и благодарность за всё!
Автобус выбрасывает нас на смотровую площадку. Отсюда Иерусалим — как на ладони. Древний город, по улицам которого ходил Спаситель, разрушен римлянами без малого две тысячи лет назад, да так, что разобран на камни и вывезен на подводах в Александрию, Венецию, Рим — там из иерусалимских камней строились дворцы, бани, колизеи. А место, где стоял Иерусалим, вспахали плугами. Так что нынешний город — вроде музейного экспоната, макет, имитация. А вот Геенна Огненная — бывшая мусорная свалка в овраге под крепостной стеной — она реальна, как реальна та подземная геенна, в которой сподобился и я пережить незабываемый страх, нечеловеческую боль, неземной мрак безнадежности. Утратив благодать творчества, бывший архангел, сброшенный с небес Архистратигом Михаилом, устроил подземное царство наподобие небесного, только со знаком минус, то есть вместо небесного света — мрак преисподней, вместо блаженства — мучения, вместо божественной любви — адская злоба. Когда-то нечестивый царь устроил в этом овраге жертвенник, здесь в угоду идолу сжигались младенцы. Потом пришел другой царь, разрушил жертвенник, место «испоганил», сделав мусорной свалкой, и уже не живые младенцы, а мертвецы и падшие животные бросались в овраг на сожжение. Вот и подземная мусорная свалка — геенна огненная — стала местом сжигания омертвевших душ неверующих людей, отвернувшихся от Бога, предавших Любовь, избравших сознательно ненависть, блуд, ложь, гордость.
Нынешний Иерусалим насквозь пропитан духом наживы, по улице Скорби — Виа Долореса — мы шли как по рынку, не всегда успешно уворачиваясь от загребущих рук, оглушенные требованиями денег, денег. О, Иерусалим, побивающий пророков, избивал и нас. На ум взошли слова из Откровения Иоанна Богослова: «Содом и Египет, идеже и Господь наш распят бысть» — распинал и нас.
Однако вернемся к сумбурной поездке в Иерусалим. «Я слышу —
рвется связь времен,
Я слышу — мир пришел в движенье!» Получилась она странной: по часу мы стояли в
Тель-Авиве на автовокзале, на заправке с музеем Элвиса Пресли, у Стены Плача,
на развалинах древней синагоги, в магазине с сувенирами, и по 15-30 минут
уделили Храму Рождества Христова в Вифлееме и Храму Гроба Господня. Только из
окна автобуса нам показали Гефсиманский сад и гору Вознесения. Ни единого слова
о чудесах, пасхальном возжжении свечей... А в саму Кувуклию, где находится
плита с Гроба Господня, нас не впустили — там началась служба.
По пути в Иерусалим нас на обед завезли в киббуц (колхоз), который специализируется на обслуживании туристов. Молодые евреи, приехавшие сюда из разных стран, ловко работали в ресторане. Причем, я даже угадывал откуда они сюда приехали: из России, Америки или, скажем, из Ирана. Обычно, в таких киббуцах молодые эмигранты зарабатывают себе какие-то стартовые деньги для дальнейшего выживания. Раньше из киббуца выйти было сложно, но в последнее время порядки упростились. Трудно сравнить этот киббуц с нашим колхозом. Изысканная чистота, европейский порядок, вежливые работящие отлично одетые люди. Конечно, понятно было, что вся эта красота дается кропотливым упорным трудом.
У Стены Плача, разделенной на мужскую и дамскую части оградой, иудеи молились, качаясь, лицом к древним камням. В щелях оставлены записки. Гид сказала, что эта стена - все, что осталось от громадного дворца Ирода. Иудеям после разрушения Иерусалима римлянами в 70-м году по предсказанию Христа разрешалось только один день в году приезжать сюда и молиться. Вот они и оплакивали свою горькую судьбу. Впрочем, все согласно пророчествам, дорогие, вам ли их не знать...
Гид сказала, что в этом месте Магомет, основатель Ислама, был вознесен на седьмое небо. «Интересно кем», — мелькнуло в моей голове. Что в этих святых местах одна молитва приравнивается к тысяче. «И в синагогах?» — снова блеснуло во мне.
Дальше на горе Сион мы посетили пустую гробницу Давида и древние развалины синагоги. Здесь все было без спешки и суеты.
Затем мы быстренько минут на пять заглянули в зал Тайной Вечери и в Церковь Гробницы Девы Марии. Гид сказала, что «хоть и считаются эти места святыми, но историки до сих пор оспаривают правильность их местонахождения». О могиле Давида она такого не говорила.
Проходили мы мимо Купальни Вифезда, где омывались перед жертвоприношением овцы на Пасху. Это здесь по этим тысячелетним камням текли реки крови бедных животных. Здесь Христос сказал, что не жертвы Он хочет, а милости. Здесь Иисус исцелил калеку.
Но вот мы вышли на Улицу Скорби, по которой Иисус Христос нес Крест наших грехов. «...Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить Его», — с улыбкой цитировала гид, не замечая, что она тоже сейчас избивает меня своим пренебрежением. Я отошел в сторону и молился о даровании мне спокойствия. Шел я по этой Улице, меня толкали шумные торговцы и толпы встречных туристов, шел я по камням, по которым ступал под тяжкой ношей Христос, и также скорбно и тяжело было на душе моей. Это ради нас, вот таких, принять мучения?..
Здесь Пилат представил Иисуса на суд толпы («Се Человек"), и озверевшая толпа кричала: «Распни Его! Распни!» Здесь солдаты играли в кости на одежду Христа. Здесь Он упал. Здесь Он встретился с матерью Своей. Здесь Симеон Киринеянин возложил Крест на себя и нес Его за Иисусом на Голгофу. Здесь по преданию Вероника отерла святое Лицо и запечатлела навечно Нерукотворный Лик Его...
Вот мы и вышли на небольшую площадь перед Храмом Гроба Господня. Сейчас это здание поделено между общинами православных греков, римских католиков, армян, коптов, сирийцев и эфиопов. Перед входом — та самая треснутая колонна. Сразу у входа внутри Храма — камень помазания, длинная плита из розового известняка, на котором оплакивала Его мать и Никодим, «приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирны и алоя, литр около ста. Итак они взяли Тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи...» (От Иоанна, 19, 39-40).
Затем мы спустились в подземелье. Здесь расположены тюрьма, где Иисус провел ночь после ареста. Здесь же могила прачеловека Адама, могила Иосифа Аримафейского («Он, купив плащаницу, и сняв Его, обвил плащаницей и положил Его во гробе, который был высечен в скале; и привалил камень к двери гроба...» (От Марка,15, 42-43,46). В одной из пещер у древней иконы стояла на коленях монахиня в черной рясе. Боже, какое светлое и красивое, спокойное и благостное лицо! Как я хотел удрать от этой шумной группы и также уединиться в пещере и предстать перед Ним и ощутить Его здесь близкое присутствие. Но, гид гнала нас дальше.
Вот Часовня Распятия с иконами в человеческий рост. Под стеклом трещина в скале от землетрясения: «Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу; и земля потряслась; и камни расселись; и гробы отверзлись; и многие тела усопших святых воскресли...» (От Матф. 27,50-53)
Вот оно!.. Эта трещина в скале — зримый, ощутимый, вещественный знак исторического факта. Впился в нее глазами как клещ. Мне показалось на миг, будто из щели, прорезавшей чрево земли до адского дна, полыхнуло огнем лавы. Стоял окаменевший, не мог сдвинуться. Юра тронул меня за локоть — что с тобой? Поняв, что я во власти мистических переживаний, отступил, только плечом сдерживал напор толпы. Перевёл взор в сторону Распятия. Промелькнула сцена с явлением Креста, воскрешение мертвеца, коснувшегося реальной силы.
«Хотя святая царица Елена к этому времени была уже в преклонных годах, она с воодушевлением взялась за исполнение поручения. Языческие капища и идольские статуи, наполнявшие Иерусалим, царица повелела уничтожить. Разыскивая Животворящий Крест, она расспрашивала христиан и иудеев, но долгое время ее поиски оставались безуспешными. Наконец, ей указали на одного старого еврея по имени Иуда, который сообщил, что Крест зарыт там, где стоит капище Венеры. Капище разрушили и, совершив молитву, начали копать землю. Вскоре были обнаружены Гроб Господень и неподалеку от него три креста, дощечка с надписью, сделанной по приказанию Пилата, и четыре гвоздя, пронзившие Тело Господа. Чтобы узнать, на котором из трех крестов был распят Спаситель, Патриарх Макарий поочередно возложил кресты на покойника. Когда был возложен Крест Господень, мертвец ожил. Увидев воскресшего, все убедились, что найден Животворящий Крест. Христиане, в бесчисленном множестве пришедшие поклониться Святому Кресту, просили святителя Макария поднять, воздвигнуть Крест, чтобы все могли, хотя издали, благоговейно созерцать Его. Тогда Патриарх и другие духовные лица начали высоко поднимать Святой Крест, а народ, взывая: "Господи, помилуй", благоговейно поклонялся Честному Древу. Это торжественное событие произошло в 326 году.»
Под мраморной плитой в нише я встал на колени и коснулся рукой серебряного кольца, которое обозначает место крепления Креста. «Прости нас грешных, Господи!» У греческого батюшки я купил свечи и поставил их одну — о здравии всех моих ближних и дальних, одну — об упокоении моих дорогих покойников. И сразу спокойно и тепло стало на душе моей. Отошла на время суета, ушла из сердца черная тоска. «Спасибо, Господи, что я пришел к Тебе. Как же душа болела без Тебя!»
В центре величественной ротонды Воскресения в лесах стояла Кувуклия — Святая Гробница. Вокруг толпились сотни паломников и туристов. Но там началась служба и нас внутрь не пустили. Тут к нам подбежал шустрый араб и потянул нас к задней стене Кувуклии. Там, оказывается, тоже есть кусок плиты с Гроба Господня. И мы выстроились в очередь, приготовив деньги. Араб и греческий молодой священник пропускали нас в нишу, мы касались плиты и за десять долларов получали пучок свечей и набор с освященными водой, землей и елеем. Но в этой суете и толчее я не испытал того, чего ожидал...
Гид снова торопила нас на выход. Мы шли по древним улочкам. и я все высматривал мизерный клочок земли, чтобы взять с собой хоть горсточку. Но нет здесь среди плит и камней земли. Нет.
Когда я в автобусе уже сам стал рассказывать о христианских чудесах, гид прервала меня и снисходительно спросила: «Вы, что, действительно во все это верите?» Сидел я в этом автобусе и думал, что ж это за люди, которые три тысячи лет ждали Христа (весь Ветхий Завет пронизан ожиданием Мессии), а когда Он пришел, предали, казнили Его и до сих пор, как нашкодившие дети, из вредности и упрямства не сознаются в собственной шкоде. Иерусалим, казнивший Христа, жестоко казнил и мое паломничество.
Вечер после Иерусалима
Нам оставил темный вечер
Неугасший свет,
Обнимал он нас за плечи
И смотрел нам вслед.
ВИА Цветы. Летний вечер
Пока неслись по гладким дорогам в комфортном автобусе вдоль апельсиновых рощ, упрямо выживающих среди безжизненных песков, пока вслушивались в приятную тишину, сменившую тысячеголосый гомон толпы — всюду разливался рассеянный предвечерний свет. Но вот свернули в наш уютный курортный городок Не-Так-и-Я — Нетания, а сюда уже откуда-то из-за горизонта, из-за ровной границы фиолетового моря под смущенно рдеющим небом — заползли сумерки, тропически быстро густеющие, нагоняющие ночную усталую тишь.
Выходим из автобуса, молча бредем по обезлюдевшей улице в сторону моря, в сторону отеля, полупустого, домашнего, зовущего на лоджию подремать в глубоких креслах с чашкой кофе на столике, поглядывая с прищуром на тающие сочные краски южного заката. Из ресторана с табличкой, угрожающей кошерной едой, доносится томный аромат перченого жареного на угольях мяса, Юра вспоминает, что ресторан отеля уже закрыт, и надо бы купить чего-нибудь съестного на ужин. Обнаруживаем отсутствие наличных шекелей в карманах, находим рядом с банком аппарат обмена валюты. Я достаю стодолларовую банкноту, заталкиваю в никелированную щель, робот внутри ворчливо отвергает банковский билет. Юра с Сергеем шепчутся невдалеке о чем-то своем, мальчишеском, я повторяю процедуру — опять возврат.
Из стеклянных дверей кредитного учреждения «Мизрах» (по-русски, «Восток») выходит тоненькая восточная девушка, одетая в обычный для служащего комплект — темно-синие юбка с колготами, белая блузка, на прелестном личике вежливая, полная сочувствия белозубая улыбка, пышные иссиня-черных волны, ниспадающие на узкие плечики. Она подходит ко мне, обдав ароматом юной свежести, мы сетуем по-английски по поводу несовершенства техники, я мысленно добавляю в диалог версию о поддельной купюре, впаренной мне ее российскими коллегами, она смущенно извиняется за то, что не смогла помочь, я успокаиваю девушку, благодарю за попытку и… предлагаю выпить кофе, уверяя, что местные лавочники способны принять и доллары, правда по грабительскому курсу. Огромные черные глаза на миг вспыхивают восторгом, затем затуманиваются печалью: о, если бы она не задержалась на работе, а дома не ждал волнующийся строгий папа, она бы с великим удовольствием — именно так, «виз грэйт плэжа» — составила бы приятную компанию столь симпатичному джентльмену. Я пожимаю девушке мягкую теплую ладошку, благодарю в самых изысканных выражениях и выражаю надежду на скорое изменение обстоятельств в пользу нашей столь чистой спонтанной приязни и неминуемую возможность совместного посещения сладкого ресторана «Капульский», что может послужить благоприятным шансом для воссоединения двух пылких сердец. Сверкнув на прощанье очами, исполненными непрошеной влагой, прошептав по-русски «до свидания», девушка пожала руки моим спутникам и поспешила в сторону автостоянки, куда только что причалил белый мерседес с водителем внутри, в столь же белом костюме.
Мы втроем взмахнули прощальными руками, прошептав дежурные восхищения вслед белой лебединой стае. Сергей вздохнул: «А ведь моя бывшая была именно такой нежной тоненькой девочкой, но через несколько лет превратилась в бульдозер Катэрпиллер, а может это у них вирус или болезнь…» Юра ударил каждого по плечу, мол, парни, все нормально, и повлек во французскую лавку, где давеча нас качественно обслужили подвергнутые воспитанию присмиревшие нормандцы. Ставший традиционным пикник на пляже все-таки состоялся. Только расположились на теплом песке под плеск морской волны, только проглотили скромный ужин и запили кофе-гляссе, как мой телефон пропел залихватскую «Шизгару» — значит, Маришка.
— Прости, Платон, я не хотела! — завопила соседка.
— Я же просил звонить, только в крайнем случае! — пробурчал я в микрофон.
— А это и есть крайний! Отец пришел ко мне пьяный, ударил по лицу и потребовал немедленно освободить квартиру для его любовницы. Он сейчас тебя набирает, поговори с ним, пожалуйста! — Отключилась.
Снова заголосил телефон обычным зуммером, значит, звонили с незнакомого номера.
— Ты, лошара, слушай меня! — прохрипел незнакомый голос. — Дочь сказала, что ты её типо крышуешь?
Услышав агрессивные интонации, раздающиеся из телефона, Юра разглядел номер входящего звонка, набрал на своем и отправил сообщение с приказом узнать всё о владельце номера. Мне показал жестом: говори подольше, пока получу сведения.
— Простите, как вас зовут? — вежливо обратился к отцу Маришки. Оказывается, я почти ничего о нем не знал.
— Иванов Иван Иваныч, — представился абонент. — Так ты чо, реально будешь мне мешать? Да эта чучундра уже дважды сбегала из дома. А теперь выгнала мою подружку, и сама въехала в хату. Если ты крыша, то приезжай по-быстрому, а то я дочурку с балкона вышвырну. Она меня уже достала!
Юра получил сообщение, прочел и вырвал у меня из рук мой гаджет.
— Простите, с вами говорит полковник госбезопасности. Итак, Илья Федорович, 1955 года рождения, бывший СНС НИИ Спецстали, проживающий по адресу…, по нашим сведениям, вы замешаны в деле о промышленном шпионаже. Вы у нас в разработке. На ваших счетах имеется миллион двести в валюте и сорок — в рублях, на даче закопаны еще полтора миллиона налом. В настоящее время в пяти минутах от вашей дачи находится наш сотрудник, он изымет наличные и доставит в контору. Также довожу до вашего сведения, что все ваши безналичные средства в настоящее время переводятся на счет вашей дочери, так что отныне она станет вас, Илья Федорович, спонсировать и содержать. На прощанье, послушайте меня: чтобы даже на глаза нашему сотруднику Платону вы не показывались, я уж не говорю об угрозах. Всё, надеюсь вы меня поняли. А сейчас вы немедленно покидаете квартиру вашей дочери и больше там никогда не появитесь. Отбой.
Юра выключил телефон и откинулся на теплый песок. Снова зазвучала «Шизгара».
— Ой, спасибо, Платончик! — завопила Маришка мне в ухо. — Вот не зря я тебя так сильно люблю! Мой папуля как ошпаренный попросил прощенья и сбежал из моей уютненькой квартирки.
— Ну всё, Мариш, отдыхай, — прошептал я в телефон. — У меня был тяжелый день, мне тоже нужно расслабиться. Пока.
Вернулась блаженная тишина. Мы погрузились в созерцание звездного неба под приятные шелестящие звуки воды. Юра услаждал полушепотом слух песенкой про госпожу удачу из любимого космонавтами фильма, я вспоминал песни, что напевала Маруся — «белой акции гроздья душистые» и «неужели это мне одной», — улетая мысленно в «мою» деревню, которая следовала за мной в мобильном вместительном сердце.
Нам было хорошо и уютно на чужой земле, спали мы ту ночь как убитые.
Благодатный день
Так, в жизни есть мгновения —
Их трудно передать,
Они самозабвения
Земного благодать.
Ф. Тютчев
Наступило утро последнего перед отъездом дня. После завтрака мы сидели в ожидании автобуса перед отелем, подставив яркому ноябрьскому солнцу лицо. Вокруг на всех плоскостях, освещенных солнцем, вразвалку лежали тощие бесшерстные кошки. На душе появилось предощущение чего-то светлого. Мы отправлялись на экскурсию в Галилею — северную провинцию Израиля, откуда начал свою миссию Христос.
Весь день нам сопутствовала прекрасная погода. Гид была из Питера (эмигрантка, конечно) по имени Анна, влюбленная в Галилею и увлеченно рассказывавшая нам об этом священном месте. Ехали мы через Хайфу по берегу моря, потом свернули в горы и вокруг появились поистине библейские картинки: коровки, овечки, пастухи в древних хитонах, селения, утопающие в зелени цитрусовых деревьев и громадных цветочных кустов.
И вот мы въехали в Назарет, где прошло детство Христа. Там мы посетили два храма — огромный католический и крошечный православный, по традиции углубленный на три метра, воздвигнутых в честь Благовещения. Там внутри храмов течет ручей, рядом с которым Дева Мария получила оповещение от Ангела Господня о рождении Ею будущего Спасителя человечества. Мы с радостью набирали в ладони и в бутылочки воду из святого источника. И парень с серьгой в ухе, который только что рассказывал подруге о тачках, баксах, кабаках вдруг преобразился и с мягкой улыбкой предлагал всем умыться этой водой: «Попробуйте, правда, поможет — она ведь святая!» Вокруг храма на инвалидных колясках везли калек, слышалась немецкая и английская речь. В лицах людей читалась надежда на исцеление. Поистине, святые места!
Из Назарета мы отправились на Галилейское море (Тивериадское озеро, Киннерет). Проезжали поворот на Магдалу, откуда родом святая Мария Магдалина. Мимо плавно проплывали Самарийские горы, по которым Христос ходил в Иерусалим, откуда добрый Самаритянин.
Склоны гор зияют тысячами пещер — здесь в древности жили множество монахов-отшельников. Пустыня абсолютно безжизненна: камень, песок, зной; ни единого кустика, растеньица или хотя бы лужицы с водой. Как же нужно верить в Бога и Его милость к Своим чадам, чтобы уходить из семей, городов и поселяться в этих суровых местах! Они уходили сюда умирать, чтобы воскреснуть для жизни вечной, мелькнуло в голове.
Слева показалось стеклянно-бетонное здание в окружении пальм и забора. Сразу подумалось, что это, наверное, чья-нибудь вилла. «А это тюрьма для особо опасных преступников», — вдруг бодро произнесла Анна.
И вот наконец, за перевалом перед нами из легкой дымки блеснуло долгожданное зеркало Галилейского моря. Здесь рыбачили Петр и Андрей Первозванный, первые ученики Христа. Здесь Христос «ходил по морю как по суху». Анна рассказала, что в прошлом году археологи со дна озера подняли рыбацкую лодку, которой около 2000 лет. Возможно, на ней плавал Христос, потому что немыслимо, чтобы так долго могла сохраниться деревянная лодка, если бы не какая-нибудь сверхъестественная сила...
В ресторанчике у самого синего моря мы ели «рыбу Святого Петра» и узнали в ней нашего карпа. На легких волнах покачивалась большая лодка, построенная по подобию той, которую подняли со дна озера. За столиком с нами пил кофе старичок из Луганска, водитель автобуса на пенсии, который здесь уже третий раз. Я спросил — почему третий-то? Он сказал как о само собой разумеющемся — так ведь святые же места...
Потом на автобусе по серпантину мы поднялись на вершину горы Блаженств. Здесь Христос произносил Нагорную проповедь. Здесь построен небольшой храм с домом для паломников. Территория вокруг храма с любовью украшена кустарником, дорожками, ровными газонами; высоченные эвкалипты создают столь приятную и необходимую тень. Наконец-то, нашел я клочок каменистой земли в нише вокруг скамейки и, заслонившись от бдительной монахини гренадерского росту толпой проходивших туристов, наскреб ножом землицы в пакетик. Сделав сие благое дело, присел на скамью и залюбовался.
Правда же, не хотелось отсюда уезжать: что угодно делать, кем угодно работать, но пожить бы здесь в этом благодатном святом месте! Может быть, по совпадению, а скорей всего, промыслительно мы с друзьями были предоставлены самим себе. Нас окружила дивная тишина, которая лишь изредка нарушалась …всхлипами. Мы втроем, не сговариваясь, плакали. И это было вовсе не смешно, скорей уместно.
— Сколько света!
— Сколько любви!
— Сколько благодати…
— А это она и есть — благодать?
— Конечно, конечно!
— Как хорошо-то… За что? Я вор и убийца…
— А я грязный блудник…
— А я тщеславный, как идиот…
— Ни за что — даром, потому что дар свыше.
Размазывая слезы по щекам, мы лепетали как дети, как безумные, как…
Наконец и это затихло, и мы замолчали. Оглянулись, промокнули щеки, глаза и понесли в себе нечто таинственное, то что дар свыше, что не объяснить, не пощупать, не увидеть.
Когда мы спускались вниз к голубому зеркалу озера и перед нами проплывали горы, помнящие Христа, я снова «ушел под кожу», отстранился, испытывая тот же восторг, только тоньше, без всплесков эмоций, тихую светлую радость в самой глубине сердца. Я благодарил Бога за возможность видеть все это, ходить здесь, дышать этим густым пряным воздухом, принимать в свою грешную душу эту светлую благодать и молча в восторге замирать в благодарственной молитве...
Вот в таком высоком состоянии духа мы сходили с автобуса к реке Иордан, где нам предстояло окропить лицо и голову святой иорданской водой, омывавшей много лет назад тело и душу крестившегося от Иоанна Крестителя моего Иисуса Христа. Моего Господа…
На заросшем невысокими деревьями берегу тихой реки толпились разноязычные паломники. Они набирали святую воду в бутылочки, умывались ею, окропляли волосы, одежды. Многие переодевались в белые до пят рубахи. Сверкали вспышки фотоаппаратов, некоторые снимали на видеокамеры.
В нашей группе была беременная женщина лет сорока. В каждом храме, где мы до этого находились, она на коленях горячо молилась. И сейчас на берегу Иордана она умывалась святой водой — и ее бледное болезненное лицо становилось красивым и просветленным! Я тогда подумал, счастлив будет ее ребенок, уже в утробе матери посетивший эти святые места. И дай ей Бог родить здорового малыша — плод ее столь поздней любви.
Я тоже подошел к воде, приятно пахнувшей речной тиной, и увидел множество больших и маленьких рыб, абсолютно безбоязненно сновавших между людских рук. Помолился и окропил себя этой чудотворной водой. Будто помолодел на десяток лет! В груди учащенно забилось, запульсировало, снова разлилось внутри меня какое-то неземное тепло (о, сколько бы я отдал, чтобы посмотреть на себя со стороны в тот миг). Юра с Сергеем не удержались, по-детски обрызгали друг друга. Совсем не хотелось уходить, шумные паломники разошлись, сошла блаженная тишина, но уже смеркалось, гид и шофер нервничали, и мы поспешили домой.
В автобусе мое блаженство еще долго теплилось в груди. Я смотрел за окно на огни сельскохозяйственных киббуцев и пограничных застав с электронной границей — за рекой темнели горы, принадлежавшие Иордану — соседнему государству. Видел горы и долины, разбросанные довольно плотно огни поселков и городов, и краем уха слушал Анну, которая, будто извиняясь за свой народ, рассказывала почему иудеи не приняли Христа. Упустим эту версию из-за ее абсолютно беспомощной нелепости.
Мои друзья затихли, погрузился и я в то чудесное состояние души, которое по старинке называется Любовь. Передо мной проплыли, пронеслись лица друзей, родичей, соседей, священников, монахов, начальников, бандитов. О, чудо, не стало у меня врагов! Не заметил в душе ни единой царапины, ни боли, ни страха — а только любовь, безграничная, светлая, уходящая за горизонт — океан блаженной любви.
Не хотел я в тот миг ни осуждения, ни обсуждения — совсем другие мысли ожили в моей голове. Я восторгался этой землей. Благодарил за возможность ее посещения, за те прекрасные чувства, которые она всколыхнула в моей усталой душе. Я восторгался ее народом, построившим в раскаленных безводных пустынях уютные зеленые города. Тогда я на время стал его частью, и я имел право сказать: «Да, это мой...Израиль!»
Более четырех часов мы неслись в шикарном автобусе по вечерним трассам среди гор, россыпи ярких огней городов и поселков, слившихся в одну гирлянду. Я вдруг увидел эту уже не чужую и не чуждую, как раньше для меня страну, — как весь наш земной мир в разрезе, в препарированном, так сказать, виде. Да, здесь ярко и многогранно проявлены все земные человеческие достоинства и недостатки, великие грехи и великие одухотворения. Здесь люди среди камней и песков героическими усилиями воздвигают оазисы и восстанавливают памятники духовных прозрений. Сажают цветы и рощи. Выращивают овощи и фрукты. Здесь молятся Бог и своим богам миллионы людей — здешних и приезжих. Здесь живут бок о бок великие праведники и великие жулики. Паломники стяжают здесь небесную благодать — и их безжалостно обворовывают, как туристические фирмы, так и лавочники и карманники. Здесь учат и обманывают. Любят и ненавидят. Убивают и лечат. Воюют и мирятся. Милосердствуют и грабят. Живут ожиданием Христа — и предают Его позорной жестокой казни. Веками возделывают благодатную почву для прихода Спасителя человечества, а Его, явившего свои чудеса и благодать, из зависти объявляют лжепророком. Эта земля рождает святых апостолов и продажных иуд. Таков Израиль. Таков человек!
Господи, прости всех нас, грешных и заблудших, но обязательно страдающих и истово жаждущих любви. Прости нас и дай нам частицу Твоего терпения и Света. Господи, спаси нас и сохрани!
Автобус остановился непонятно где. Вышли в темноту, огляделись. На остановке приметили темнокожих людей, жмущихся друг к другу. Обратились к ним по-английски. Они испуганно замотали головами. Пошли наугад по грязной улочке с планирующими обрывками бумаги. Почувствовали дыхание моря, пошли на запах и оказались на неосвещенном участке набережной. Вдалеке блеснул неоновый свет. А вот и наш отель, только с другой стороны. Молча разбрелись по номерам, заснули как младенцы.
А утром — все как обычно: душ, завтрак, минивэн до аэропорта, час таможни, четыре часа полета — и мы дома. Только по большей части, тихо, молча, «чтобы не расплескать».
Часть 4. После Словие
Будни
В нас чувства лучшие стыдливы и безмолвны,
И все священное объемлет тишина:
Пока шумят вверху сверкающие волны,
Безмолвствует морская глубина.
Дм.Мережковский
Почему-то ввалились гурьбой именно ко мне домой, в мою московскую студию. Видимо, продолжало держать нечто общее, сцепляющее. Мы сидели напротив друг друга, молчали, пряча глаза, снова и снова, мысленно возвращаясь на Гору Блаженств. Весело звякнуло в прихожей, на пороге в нерешительности застыла… в нерешительности?.. что-то новенькое!
— Кто-то не закрыл дверь?
— Прости, задумался.
— Тогда встречай гостью.
И она не замедлила появиться — рот до ушей, прическа, шелковое платье, туфли на высоком каблуке, бусы — это что-то новенькое. Юра пребывал на своей глубине, Сергей же во все глаза разглядывал непрошенную гостью, она — его. Неужели сбылись мои сокровенные мечты! Как говорится, леди с дилижанса… и так далее.
— Вы прекрасны, как чайная роза в капельках росы! — прошептал Сергей.
— А вы подобны прекрасному принцу на белом коне, — зачарованно произнесла Маришка.
Ну, понеслось… И откуда у них взялся такой набор банальностей! А впрочем, когда вот внезапно накроет влюбленность, еще и не такое в голову взбредет. Тут даже Юра очнулся и подозрительно глянул на застывшую парочку.
— Э-ей, Сережа, ты бы того… полегче, — предупредил он, зная бесшабашность Марины.
Только они уже ничего не слышали. Взялись за руки и ушли туда, где трепещут алые паруса, сверкают радуги и щебечут соловьи.
— А если это любовь, — предположил я.
— Я по наивности думал, что там, — произнес Юра задумчиво, — на Горе Блаженств нам показали, что есть любовь истинная.
— Думаю, неправильно ожидать от людей подвигов, откровений — это может прорастать годами. И то не факт, что случится.
— А меня что-то так проняло не по-детски.
— Это заметно, Юр, невооруженным взглядом. Ну, что ты хочешь, первый опыт получения благодати, как встреча с вечностью. Ты храни её, оберегай, как драгоценную жемчужину. И радуйся!..
— Платон, я должен сказать тебе нечто важное. Ты, наверное, слышал не раз, что у профессионалов главное — чутьё, шестое чувство. Так вот оно мне подсказывает, что эта наша с тобой поездка — последняя. Практически все, кто участвовал в операции по возвращении денег партии, уничтожены. Теперь моя очередь, и мне от судьбы не уйти. Поэтому я встретился по твоим следам с монахом Иосифом. Я тоже стоял у того расстрельного камня, и мне тоже многое открылось.
— Георгий, ангел мой воинственный, — вопросил я мысленно, — твоих рук дело?
— Да, я тоже участвовал в той спецоперации. Правда не один, а вместе с ангелами-хранителями Юры, Инессы, и Иосифа. Ангелы, знаешь ли, умеют действовать совместно.
Юра, помолчав, продолжил:
— Когда меня… устранят, скорей всего тебе с Инессой, а может даже и твоей соседке, предложат продолжить мою работу самостоятельно. Не соглашайся! Там, где власть, сила и большие деньги, душа человеческая обесценивается, жизнь прекращается, а спасение возможно только через физическое устранение. Помнишь ведь: кто с мечом придет, тот от меча и погибнет. У тебя есть свое дело — оно мирное, доброе, милосердное. У тебя есть группа единомышленников, они проверенные ребята, они не подведут. Насчет меня не беспокойся, я в руках Божиих. Как Господь управит, тому и подчинюсь. Да еще что! Вы с Инессой на какое-то время уезжайте из страны. Георгий подскажет тебе, куда и когда можно будет. Инесса вернется к тебе, когда ваш Ирод будет повержен. Ничего не бойся, ни о чем не беспокойся, Господь все управит так, как надо. А мне положить душу за други своя — это счастье. О такой судьбе можно лишь мечтать. Ладно, прости, брат, засиделся я тут. — Юра вздохнул. — Хорошо у тебя, душевно.
Наша парочка с недельку поиграли в любовь, да и приступили к обычному бытовому пьянству. Маришка, как человек более ответственный, тормознула через три дня, а Сергея понесло по кочкам и закружило в омуте весьма основательно. Маришка сидела у одра болящего, как сестра милосердия, неотступно. Вздыхала и переживала, бегала за пивом и вином, заботилась о горячей закуске из ближайшего ресторана и снова переживала.
Наконец, к нему пришли товарищи по работе, пытались усовестить, но услышав предложение «по чуть-чуть», не устояли и попросту напились допьяну и покачиваясь, удалились. Потом были женщины из бухгалтерии — эти тоже не удержались от «по чуть-чуть». Ну а уж в последнюю очередь подключилась «тяжелая артиллерия» в лице начальника цеха — тот прочитал лекцию о вреде алкоголя, и только после этого, исполнив протокол, слегка позволил себе.
С гостями Маришка держалась с достоинством, с восхищением глядя на своего рыцаря пера и спецовки, столь уважаемого в незнакомой пролетарской среде. Когда писатель между утренним пивом и вечерней отключкой зачитывал вдохновенные тексты, она хлопала в ладошки, взрываясь бурным восторгом.
Однако, пора и честь знать, Сергей однажды собрался духом и дошел-таки до заводской проходной, разумеется, под ручку с возлюбленной. Маришка в едином пролетарском порыве устроилась на завод на вакансию художника, чтобы и там ухаживать за возлюбленным, ревниво поглядывая на веселых заводских девчат. С тех пор их совместная жизнь наладилась и потекла не бурной стремниной, но тихой полноводной рекой. Какое-то время…
Случился и у меня день борьбы с пьянством.
Мой телефон ожил и как-то нервно заверещал. Даже не глянув на экран, понял, кто звонит — Палыч. Голос его звучал печально, с чуть просительной интонацией:
— У меня отобрали мобильный, поэтому звоню с местного городского. Здорова, Платон!
— Здравствуй, ныне и присно, брат поэт! — отозвался я. — Что-то мне подсказывает, сейчас прозвучит просьба насчет дорожных. Ты на мели?
— Это как положено! — прорычал экстремал. — Где ты видел богатых поэтов!
— У Сергея в гостях, — напомнил я, — когда ты достал из сумы дорогое виски.
— Эк вспомнил, когда это было! Короче, я тебе продиктую номер карточки, а ты закинь мне долларов триста-четыреста. Пора домой, соскучился по моим бандитам. По тебе тоже. — Он продиктовал номер карточки, потом еще, на всякий случай, повторил и заставил меня прочесть ряд цифр. — И не забывай слов Спасителя: «Просящему у тебя дай…» — и от себя добавил: — и не жмись!
— Ладно, «закину», — проворчал я нехотя. — А ты сейчас где подвизаешься?
— В лавре преподобного Герасима. Потом как-нибудь расскажу, — зачастил он. — Ой, давай, покеда, начальство идет. — С грохотом бросил трубку, наверное, старого образца.
В голове моей прогудели слова преподобного Амвросия Оптинского: «Имей толк, не давай пьянице в долг!» Следом за предостерегающими словами из мозга головы, снова противно запищал телефон, чуя недоброе, надавил зеленую кнопку, поднес к уху.
— Простите, я невольно подслушал ваш разговор с братом Павлом, повторил набор последнего звонка, — произнес тренированным баритоном незнакомец. — С вами говорит игумен Исидор, я в обители занимаюсь паломниками. Как ваше святое имя?
— Платон, — представился и я. — Что там с Палычем? Опять бедокурит?
— Да, верно сказано. Прошу вас, не высылайте ему денег. Пропьёт.
— Это что же, он и в монастыре умудряется?..
— Увы, да, — вздохнул игумен. — Видимо, перед тем как появиться у нас, Павел собирал милостыню. И да, сбегает в магазин в поселке, проносит в обитель и ночью прикладывается. Вам, наверное, известно, как он умеет вызвать жалость и выпросить денег.
— Нет, в таком изысканном обращении Палыч замечен не был. Он обычно не просит, а требует, да еще угрожает, в случае отказа, побить. Экстремал!..
— Даже так! — удивился монах. — Здесь он, конечно, так себя не ведет. Он пребывает в послушании нашего старца, человека мягкого, но у него не забалуешь, может и посохом по спине огреть. Братия молится о брате болящем, старец исповедует помыслы, уверен, будет польза. Так что вы, Платон, пожалуйста, денег ему не высылайте. Как удостоверимся, что Павел достаточно окреп, мы сами его отправим домой, прямо в самолет посадим.
— Тогда позвольте мне послать вашей обители милостыню. У вас имеется сайт с реквизитами?
— Есть, конечно. Спаси вас Господи. А может, будут имена для молитвы? Диктуйте, я запишу, отдам в алтарь, помолимся.
Продиктовал по памяти «мои» имена, покойных и живых. И мы с игуменом попрощались. Чтобы не забыть, разыскал в интернете сайт обители с платежными реквизитами, перечислил деньги. Разговор с монахом со Святой земли оставил приятное впечатление. Я почувствовал в груди приятное тепло — как после завершения доброго светлого дела.
Монархист
Кто любит Царя и Россию, тот
любит Бога...
Если человек не любит Царя и
Россию,
он никогда искренно не полюбит
Бога.
Это будет лукавая ложь
Прот. Николай Гурьянов (+ 2002)
Раз в два-три месяца Юра приглашал меня в «политехнический тир», вообще-то стрельбище находилось в одном из многочисленных лубянских переулков, и скорей всего, именно к грозной Лубянке имел непосредственное отношение. Но называли мы его именно так — политехнический. Юра считал, что любой уважающий себя мужчина обязан уметь стрелять метко, без промахов, и так уж получилось, что самым «уважаемым и мужественным» каждый раз оказывался, простите, я, «первый штафирка в роду военных». Мне и самому было интересно, какой фокус на сей раз выкинет мой зрительно-стрелковый механизм. Видя, как старательно сопя однополчане ведут стрельбу, в первую зачетную стрельбу я небрежно выпускал свинец в мишень, которую и видел-то смутно. Зато в следующий раз прицелился по-взрослому, и без напряжения выполнил норму мастера спорта, что привело Юру в восторг, а майора — в стариковскую печаль. В то утро я повторил собственный рекорд, однополчане также отстрелялись неплохо, и мы, попетляв по длинным сумрачным переходам, вышли на Маросейку, залитую ярким солнцем. По пути к метро заглянули в пельменную, чудом сохранившуюся с времен развитого социализма. Пельмени на этот раз оказались полусырыми, они плавали в сильно разбавленной сметане, поверхность стола сохраняла пятна и круги от предыдущих едоков, салфетки в пластмассовом стакане отсутствовали. Майор с ворчанием написал отрицательный отзыв в книгу жалоб и предложений, мы вышли на жаркую улицу, прошли метров тридцать в сторону Старой площади, купили у шумной лоточницы по паре сочных чебуреков, запили нарзаном, и тем удовлетворились — завтрак на природе удался.
Вышли к Памятнику героям Плевны — и оказались в гуще толпы. Потолкавшись среди довольно спокойных людей, обратили внимание на зонты, хоругви, трибуну с выступающими ораторами, отметили для себя шеренгу машин скорой помощи. На трибуну взошел седой мужчина с красным лицом гипертоника и, перекрестившись, стал говорить о скором пришествии царя.
— Понятно, — проворчал Юра, — сборище монархистов! Может, пойдем отсюда?
— Это какой Осипов, не профессор ли случайно? — раздался у нас за спинами зычный голос. Мы оглянулись, сразу за нами стояли два богатыря в черной одежде с плетками в руках — казаки.
— Да ты что, если бы здесь появился профессор, я бы его самолично вот этой плеткой отстегал! — рявкнул другой казак, сжимая плетку. — Знаешь какие он мерзости про русских царей говорит — уши вянут! Ездит по России и врет, ездит и в души православным гадит! Не-е-ет, это Владимир Осипов — наш, монархист, он полжизни в тюрьмах провел.
— Православный христианин не может быть никем иным, только монархистом! — Раздался с трибуны голос священника. — Государь — это Божий помазанник.
— А ведь правильно говорит, — произнес Юра задумчиво. — Кажется денёк перестаёт быть томным. Майор наш слинял уже, он толпы боится. А мы, Платон, давай-ка с народом пройдем крестным ходом. Кажется, нас ожидает нечто новое и незнакомое.
Мы выстроились в колонну и тронулись в сторону набережной. Вдоль шествия выстроились корреспонденты телевидения, газет, фотографы, операторы. Прошли вдоль кремлевской стены. То одна, то другая иконы мироточили и собирали поклонников, которые прикладывались к образам, отходя на свои места с улыбками восторга. В колонне раздавались «Боже, царя храни!..», «Царю небесный…», «Богородице, Дево, радуйся!..! Люди плакали, улыбались, бегали от одной мироточивой иконы к другой, по дороге проехал грузовик с поющими колоколами, нас от жаркого солнца скрыло облако, сопровождающее колонну. Рядом с нами шли незнакомые люди — старые, молодые, дети на руках отцов — и все стали нам родными, близкими, единомышленниками, единоверцами.
— Как же такое случилось, — удивлялся Юра, — что мы с тобой были вне этого! Ведь это всё — наше, родное! И эти люди — наши, за которых и умереть не жалко!
— Я вижу, вы впервые принимаете участие в крестном ходе, — сказал сосед по колонне. — Если вы не против, давайте посидим в кафе на Кропоткинской. В такую жару — кофе в самый раз.
Наплывающая многотысячная толпа вытеснила нас к метро. И вот мы уже сидим в Гранд-кафе под приятной струёй от кондиционера, пьем весьма приличный кофе, жуем необычные круассаны с ростбифом и говорим, говорим, все еще переживая праздничное возбуждение.
— Простите за навязчивость, — мягко вступил наш сотрапезник по имени Степан Петрович, — вы, наверное, меня не вспомните, а мы с вами встречались. И не раз, в стенах весьма серьезного учреждения, что тут недалеко.
— Могу даже утверждать, что помню ваше звание полковника, а куратор у нас один.
— Да, все верно, — кивнул Степан. — А обратился к вам именно потому, что мы из одного крыла.
— Патриотического, — уточнил Юра. — Мы с Платоном друзья-однополчане, при нем можно говорить без оглядки.
В принципе, всё, о чем они говорили, было мне более-менее известно. Вот только одна новость для меня прозвучала: оказывается, в службе безопасности имеется сообщество монархистов, и его ряды непрестанно пополняются новыми кадрами.
— За монархией — будущее нашей страны, — сказал полковник. — А кому же еще охранять наше государство от супостатов, если не службе госбезопасности.
— Ну, а то, что нашим внутренним и внешним недоброжелателям власть Божиего помазанника, как кость в горле — это очень и очень понятно. — Юра понизил голос, бдительно оглянувшись. — Ведь они при монархии потеряют всё: власть, деньги, возможность пакостить, грабить. — Юра посмотрел в упор на собеседника. — Так, когда же всё это случится? По-моему, народ уже просто устал терпеть весь этот беспредел.
— А вы подумайте, сколько сейчас народу, и здесь, — полковник указал на три стола с оживленно беседующими едоками, — и в соседних кафе после нашего шествия, по кухням, городам и весям — обсуждают то же, что и мы с вами. Помните из Луки: ни одно слово не останется бессильным у Бога, значит, когда мы русле Божиего промысла, мы в силе, мы с Богом.
— Насколько я помню из пророчеств, царь уже должен явить себя народу, — встрял я со своим насущным.
— Так-то оно так, — произнес Степан, — только давай вспомним еще кое-что. Во-первых, царь придет после третьей мировой войны. Во-вторых, наши вооруженные силы только начинают вставать с колен. У нас еще очень много работы. Ведь мы должны так себя обезопасить, чтобы война не под Смоленском и в Подмосковье гремела, а за границами страны, да еще как можно дальше от границ. Чтобы народа русского как можно больше в живых осталось. Надо еще помнить слова Иоанна Кронштадтского о том, что к нам потянутся миллионы людей православных из зарубежья, там-то вообще руины одни будут. И их надо будет принимать и как-то устраивать.
— Значит, сейчас время накопления силы, — предположил Юра. — Собирания камней, так сказать.
— И силы, и веры, — кивнул полковник, — да и детей воспитывать правильно надо. Кто же еще, если не русские парни понесут бремя войны, кто еще готов умирать за родину. А этот процесс идет, пусть не так явно, пусть подспудно, в семьях, школах, детских домах, в армии, наконец — но его уже не остановить. Правильно ты сказал, народ устал от беспредела, от лжи, поганых соблазнов, грязи.
— А что ты слышал о переменах в армии и госбезопасности? — спросил Юра.
— Скорей всего то же, что и ты, — улыбнулся полковник. — Сейчас это только в самом начале, но в системе ВПК началась мощная перестройка. Доподлинно известно, что все наработки еще с шестидесятых годов сохранены и, пусть полуподпольно, но работы продолжаются. И скоро нас ожидает мощный рывок в новейших технологиях — да такой, что всех супостатов опередим лет на двадцать. А ты разве не работаешь в этой сфере? Разве не обеспечиваешь новейшими разработками в области спецоборудования? А ведь нам еще предстоит взять у запада все лучшее и самим научиться делать не хуже.
— Ты и о моей работе осведомлен? — понизив голос, спросил Юра.
— Повторяю, мы в одном патриотическом крыле работаем, одно большое дело делаем! — И полушепотом: — Думаешь, случайно мы с тобой крестным ходом вместе шли? Э, нет, в таких делах ничего случайного не бывает — Господь нас по жизни ведёт.
— Послушай, Степан Петрович, — произнес Юра задумчиво. — Мы с Платоном недавно паломничали во Святую землю, то есть, в Израиль.
— Знаю, мне уже доложили.
— Так вот что я должен сказать. — Юра потер переносицу. — Только не подумай, что я смерти боюсь… Словом, на Горе Блаженств мне показали, как меня убивают. Кто же вместо меня будет? Там очень много лично на меня завязано.
— Ты же сам и будешь, — улыбнулся полковник. — Должен тебя сильно огорчить: жить тебе, да и нам с Платоном — еще очень долго. Нам еще Царя грядущего встретить нужно, да ему послужить в меру сил. Так что, солдаты невидимого фронта, наберитесь терпения — и в бой.
Джентльмены тоже люди
В мире компонентов нет
эквивалентов
В.Ерофеев
С некоторых пор наблюдаю одну примету: если джентльмены Сергей с Романом вольно или невольно скрываются от меня, значит попали в беду. Источником бед у обоих были два основных фактора — женщины и творчество. В тот день, однако, случился взрыв, детонатором которого сыграла Маришка. Она приехала домой, в ту самую квартиру, с номером на единицу меньше моего, не успел я как следует открыть дверь, как в меня полетела папка, едва увернулся.
— Батон, ты только взгляни, до чего докатился твой дружок!
Я поднял с пола скоросшиватель, пролистал пачку чистой бумаги без единой буквы, закрыл, глянул на обложку. Там крупными буквами рукой Сергея выведена надпись: «Моя святая земля», роман, автор — Сергей Блаженный.
— Во-первых, не Батон, а Платон, — подал я голос, опаляемый уничтожающим взором надоедливой соседки. — А во-вторых, кто тебе обещал в качестве бесплатного приложения к хорошему парню гениального писателя? В-третьих, творчество — это настолько тонкое, мучительное занятие, что не нам с тобой судить о неудачах творца.
— Он сжег половину рукописи! — прошипела Маришка. — Представляешь! А эту «куклу» держал на столе. Я еще на цыпочках вокруг ходила, чтобы не дай Бог, не помешать, не прогневать великого!
— Обычное дело у писателей, — примирительно произнес я. — У них как бывает: проснется автор в помятом состоянии, почитает написанное вечером, огорчится — да и швырк в камин. Это называется у них недовольство собой — между прочим, весьма ценное свойство. Так, что ты от меня хочешь? Мне что, вместо Сергея книгу написать?
— Да нет, какой там написать! Ты и не сможешь…
— А вот это было обидно! — заметил я.
Маришка не обратила внимания на мои слова, присела к столу и обмякла.
— Понимаешь, ведь он меня обманывал. — Подняла умоляющие глаза и, чуть не плача, пропела: — Может, поговоришь с ним? Потом мне объяснишь. А?.. — Вскочила и, указав рукой на дверь, сказала: — Я утром подслушала, они у Ромки сегодня в три часа встречаются.
— Ладно, подъеду, поговорю, — вздохнул я. Потом снял тапок с ноги, шлепнул по столу и грозно выпалил: — И не Батон я, слышишь, а Платон!
Чтобы творчески взъерошенные джентльмены не выставили меня прямо с порога, зашел в магазин, накупил вкуснятины и без предупредительного звонка позвонил в облупленную дверь. Открыл мне Роман, бросил взор на дары в моих руках, обрадовался и пригласил войти. Пока менял туфли на растоптанные тапки, пока Сергей принимал из моих рук пакеты с едой, заметил двух подозрительных субъектов на кухне. Они громко шушукались с хозяином, называя многотысячные цифры. Так, понятно, это те самые импресарио, которые продают картины Романа заграницу. Соблазняют, значит!.. Увидев меня, они поспешили бочком удалиться. А жаль, мне есть, что сказать таким вот дельцам, паразитирующим на таланте художника.
Романа заполучил следующий гость в черном костюме, вышедший из алькова, где хранились картины. Оттуда стали доноситься умоляющий баритон одного и унылые оправдания другого. Ясно, соблазнение джентльмена харизматичным гостем продолжается. Сергей махнул рукой: не лезь не наше дело, разложил принесенные мной припасы на столе, успокоился и поднял на меня глаза, полные невысказанных вопросов.
— Приезжала ко мне Маришка. Швырнула в меня «куклой» твоей книги, — прошептал я. — Что с тобой, что с твоей книгой?
— То, что успел написать, осталось, а вторая часть, которую писал на Святой земле, не получилась. Брак! Понимаешь?
— Есть причина?
— Да! — вскрикнул Сергей, плеснув себе для храбрости.
— Излагай.
— Помнишь, ту банковскую девушку-красавицу, что пыталась помочь нам с обменом денег?
— Помню, конечно, девочка была симпатичной и доброй, что в наше время редкость.
— Так вот, я во время прощания сунул ей визитку с телефоном. И она позвонила!.. У банка, где она работала, имелся в соседнем отеле арендованный номер. Ночью, дождавшись, когда все уснули, я выскочил из нашего номера и проник к ней в гости. В общем, дело молодое, у нас случилось это самое…
— Ну ты даешь!.. Наш пострел всюду поспел.
— Дальше был один позор. На Горе блаженств, когда вы с Юрой купались в волнах благодати, мне пришлось симулировать. И тут пошло одно за другим: ложь, кривляния, зависть, а в результате — холод в душе и такое чувство, будто я в один миг всё потерял. Абсолютно всё! Понимаешь?
— Это хорошо, что ты поделился. Наверное, тяжело было этот камень в сердце носить?
— Точно, полегчало. А вот Юре в этом признаться не смог бы, мне кажется, он меня насквозь видит. Потому, кстати, и набросился на Маришку, отчаяние пытался скрыть. Ну и сам подумай, какая там писанина у меня могла получиться после такого падения.
Проводив гостя в черном, на кухню вошел Роман.
— Не удалось выпросить картину по дешевке? — поинтересовался я.
— Пришлось объяснить, что готовлюсь к международной выставке. Я к ней стремился три года, и вот кажется скоро всё случится.
Роман присел к столу, смастерил бутерброд, с жадностью проглотил. Пока он жевал, я вспомнил, как однажды он познакомил меня здесь, в мастерской, с улыбчивым священником, который окормляет творческую интеллигенцию.
— Напомни, Роман, как его зовут?
— Отец Алексий из села Гребешки, — кивнул Роман. — Да ты, Сереж, съезди к нему. Уверен, получишь немалую пользу. Батюшка очень бережно относится к писателям и художникам. Каждому напоминает притчу о талантах, о великой ответственности — это зело стимулирует. Там у него каждый день творцы гостят, может, случится полезное знакомство.
— Съезжу, конечно, — понуро проворчал Сергей. Поднял на меня глаза: — А с Маришкой мне что делать?
— Не волнуйся, я с ней поговорю. А ты к отцу Алексию собирайся. Что-то мне подсказывает, для тебя эта поездка станет прорывом. Уж очень теплый батюшка. Как глянул на него, у меня в голове прозвучало: кроток я и смирен сердцем. — На меня накатила волна вдохновения, я глянул на часы и выпалил: — Так, сейчас, без четверти четыре. Если закажем такси, как раз к вечерней службе в Гребешки поспеем. Вставай, Сергей, у меня идея!
До храма, где служил отец Алексий, добрались за полчаса до начала всенощной. Я усадил Сергея, велел ждать, а сам подошел к батюшке под благословение. Он, как ни странно, меня вспомнил, я в двух словах объяснил ситуацию Сергея, он велел оставить его на пару дней. И тут я приступил к реализации своего плана. Достал из сумки книгу, показал отцу Алексию.
— Батюшка, вы знаете, этого издателя? — я открыл страницу с выходными данными, где имелись название издательства с адресом.
— Как не знать, — улыбнулся отец Алексий, — да был он у меня в гостях. Очень приятный молодой человек, наш православный. Предлагал мне посылать к нему наших авторов. Разумеется, после моего прочтения и благословения. А что, твой спутник из таких?
— Вот именно, — воскликнул я. — Очень надеюсь, вы поможете ему выйти из кризиса, так что он нас всех еще удивит.
— Хорошо, Платон, поработаю с твоим протеже. Нам такие сейчас очень нужны.
Выхожу их церкви, обнаруживаю такси в кустах, а водителя — в очереди за святой водой. Добираемся до моего дома, я поднимаюсь на лифте на свой этаж — и почему-то не удивляюсь тому, что вижу у своей двери Маришку с бутылкой пива в руке.
— Ну что, Сергей меня не бросил? — спросила она.
— Пока нет, но если будешь на него давить, я ему сам предложу этот вариант. Заходи, разговор есть.
Оказывается, я с утра ничего не ел, поэтому поставил чайник, соорудил бутерброды, порезал салат, предложил соседке поужинать вместе. Поначалу она поворчала, но потом почувствовав приступ голода, набросилась на еду.
— Теперь слушай, — сказал я, тщательно прожевав пищу. — Сергей сейчас находится у одного весьма серьёзного священника. Понимаешь, книга у Сергея уже есть, только она вся вот тут, — показал я на лоб, — у него в голове. Надо ее оттуда извлечь и напечатать на бумаге. Священник, к которому я его отвез, как раз этим и занимается профессионально. Так что, Серегу не отрывай, ему не звони, а сама займись вот чем! — Маришка даже жевать перестала и подалась ко мне. Я достал книгу из сумки. — Видишь, это книга, она издана в Париже православным издателем. Этот издатель брал благословение у того самого священника. Твоя задача, съездить в это издательство и договориться насчет издания наших авторов и Сергея, в том числе. Понимаешь, ответственность момента?
— Ага! — шмыгнула она носом, проглотив, наконец, прожеванный кусок бутерброда.
— Ну а Сергею будет дополнительный стимул для скорейшего написания книги. Вот увидишь, как всё получится, если чудесным образом, по вдохновению, да по благословению. Всё, хватит пиво дуть и давай, в Париж собирайся. Заодно город посмотришь и приоденешься. Да, обязательно купи Сергею черную кожаную куртку. Ты хоть раз видела великого писателя без черной куртки?
— Нет, не видела. Писателя. Ни одного, кроме Сергея.
— Видишь! Так что вперед. Всё, счастливого пути!
На третий день позвонил Сергей и сообщил, что переехал в мастерскую Романа, пока тот занимается выставкой.
— Понимаешь, Платон, — пояснил Сергей, жуя традиционный бутерброд, — во-первых у отца Алексия я получил…
— Пинок, пендель, по лбу?..
— Получил творческий импульс, — невозмутимо продолжил жевать мой визави. — А во-вторых, здесь у Романа, такой аромат…
— Дешевых масляных красок, испорченного скипидара, немытых ног и давно нечищеного унитаза?..
— Аромат творчества, свободы! Я как сюда приехал, сразу сел писать. Понимаешь!
— Это хорошо, — сказал я, — а эти импресарио Романа — Дживс и Вустер — к тебе еще не приставали?
— Какие еще Джустеры? — Он глянул на потолок, вспоминая. — А, те самые, которые из комедийного сериала?
— Те самые, которые Романа обворовывают! Да ты видел, у них по диагонали на лицах написано: «Вор».
— Да? — Сергей почесал затылок. — Они сейчас на выставке, Роману помогают. А один, тот самый который похож на камердинера Дживса, он меня встретил на выходе из храма и предложил довести на своей «девятке».
— Он тебе что-нибудь предлагал? — поинтересовался я.
— Конечно, — кивнул начинающий писатель, — помощь в издании книг.
— Кто бы сомневался, — проворчал я. — Я отправил Маришку в Париж.
— В Париж? Зачем?
— За курткой кожаной. Ты видел современного писателя без куртки?
— Видел, в зеркале.
— Так то был еще не писатель, а так, подписок, — пояснил я. — А во-вторых, Маришка поехала договариваться с издателем. Помнишь, одно из ее прозвищ — Пиявка? А что, весьма полезное животное! В медицине используется. Имей ввиду, она с того издателя такой договор стребует, что он тебя классиком сделает.
— Ну что же, пусть проветрится, а то она уже в мою холку, как вампир нацелилась, видимо, артерию посочней выбирала.
— С соседкой своей я как-нибудь разберусь. Не зря же она ко мне жаловаться на тебя приезжала. А вот с Дживсом будь осторожней. От этой парочки такие гнусные волны исходят! Эти вампиры еще покажут нам всем, как у творческих джентльменов кровь высасывать, до донышка.
Пока Сергей выписывал вторую часть книги, пока Маришка названивала из Парижа, сообщая успехи в комплектации писателя курткой и издателем, а я снабжал голодного творца питанием, всё было хорошо. Но вот однажды, Романа привезли в мастерскую на носилках, положили на диван и сообщили нам: инсульт, отнялась правая сторона тела.
— Почему не домой, к жене, а сюда? — спросил я у Романа.
— А что толку от бестолковых баб? Там дома одни истерики, — с трудом произнес больной перекошенным ртом. — Я, может быть, всю жизнь мечтал «пасть стрелой пронзенный». Чтобы лежать среди своих настоящих друзей. — Он здоровой рукой показал на альков, где хранились оставшиеся в живых картины. — И замысливать нечто великое.
— Слушай, Роман, — произнесли мы с Сергеем хором. — Давай, мы тебя в Дивеево свозим! Там и не таких излечивали. Там уже миллионы исцелились.
— Даже не подумаю, — проворчал больной. — Вы что, ничего не поняли? Мне пострадать напоследок — очень нужно. А теперь, господа, прошу на выход. Покоя хочу!
Следующие две недели мы с Сергеем, несмотря на ворчание больного, навещали его. Причем ожидать под дверью после звонка приходилось подолгу, пока он слезет с дивана, пока доползет до входной двери, пока справится с замком. Наконец, мы входили, Сергей усаживал его на унитаз, я готовил диетическое питание, варил протертые супы, жарил рыбку без костей, варил картошку, пропускал через блендер огурцы с помидорами. Роман же требовал мясо и хлебного вина, на что Сергей скручивал композицию из пальцев и подносил к лицу больного.
Дважды мы с Сергеем сталкивались в дверях с «Дживсом и Вустером». После их прихода по средам и пятницам — постным дням — Сергей прятал в тумбочку водку и мясные деликатесы. Я взял у Романа телефоны обоих деятелей, позвонил и попросил не травить больного спиртным и мясом — для тех, кто перенес инсульт это вредно, на что в ответ выслушал длинную тираду, мол, вы устроили Ромке тюрьму, а он свободная творческая личность и любые ограничения для него смерти подобны.
Еще несколько раз звонил в мастерскую, чтобы поговорить о главном. Подумал, разговор тет-на-тет получится более доверительным. Сказал, что иконы, которые он писал ради заработка, вряд ли на Суде будут приняты в качестве оправдания, а жирные обнаженные тетки на фоне церквей и берез — то, что требовали заграничные заказчики — вообще полный провал. Умолял Романа прекратить забастовку, съездить в Дивеево, излечиться и приступить к написанию картин, зовущих в рай, в Царство небесное. На что он ответил:
— Нам «сие неведомо», из рая никто не возвращался, каково там — никто не знает.
— Да я там был! И могу в качестве свидетеле привести тебе еще троих.
— Ой, прекрати, пожалуйста, — смеялся он, звеня бутылкой «хлебного вина» о стакан. — Что вам приглючилось с похмелья — это ты другому впаривай, а я вырос из этих штанишек.
— Ладно, говоришь, «сие неведомо», — возмущался я, — а сколько в Евангелии, в Апостоле, Откровении, в писаниях святых отцов свидетельств! Это что, тоже «глюки»? Да вот, в сумке у меня всегда лежат пара-тройка книг, в дороге почитать — там лежит книга Ефрема Сирина «О рае». Могу привезти.
— Ладно, — нехотя протянул больной, не желающий исцеляться. — Привези, занятно будет полистать.
…Не успел! Утром позвонила жена Романа — она по телефонной книжке мужа обзванивала всех, чьи номера записаны. Спокойным голосом, даже слишком спокойным, она сообщила:
— Вот, заехала перед работой в мастерскую и нашла Романа лежащим на полпути от дивана к обеденному столу, заставленному бутылками с «хлебным вином», тарелками с ветчиной, колбасой и бужениной.
Перед тем, как положить трубку, она так же спокойно, как рефрен, произносила:
— Ну что, добились своего, убили моего Ромку…
Первое, что я сделал, позвонил «Дживсу и Вустеру» — они вместе сидели в пивном баре, «отмокали после вчерашнего». Я только спросил:
— Вы вчера с Романом выпивали?
— Да, а что нельзя!
— Он умер. Ночью. Когда полз на кухню, чтобы добавить.
— А мы тут причем! Мы свободные люди — хотим пьем, хотим — завязываем!
— Ладно, встретимся в суде, думаю, за непредумышленное убийство с отягчающими лет на десять успокоитесь. Пока, убийцы!
Потом было отпевание в церкви. Священник, произнося проповедь, сказал, что покойный был несомненным праведником. А у меня в душе наблюдалось такое смятение, что даже плакать не мог. Подошла дочь Романа, тронула меня за локоть и прошептала:
— Прошу вас, не надо никому мстить. Обещайте!..
— Обещаю… А ты молодец, настоящая христианка. Помоги тебе Господь.
Девушка, всхлипнула и быстрым шагом отошла к окаменевшей матери. Почему девочка подошла именно ко мне?..
В отличие от меня, деревянного по пояс, Сергей себя в проявлении эмоций не ограничивал. Он стоял в изголовье деревянного ящика со смешными оборками по краю, рыдал во весь голос, орошая слезами пожелтевшее отёчное лицо друга. Наконец тягучее прощание подошло к концу, стали собираться на кладбище, Сергей умоляюще глянул на меня и прохрипел:
— Давай, не поедем.
— Давай, — отозвался я.
— Не смогу закапывать его…
— Я понимаю.
Мы вышли из храма, проскользнули тенью мимо родичей Романа, забирающихся в автобус. Первым делом Сергей затащил меня в магазин, велел купить «хлебного вина» с колбасой и ржаным хлебом. Я безропотно выполнял его указания. Выйдя из магазина, оглянулись и по наитию пошли, куда глаза глядят. А глядели они, как оказалось на строительство неизвестной нам церкви, затерянной среди мещанских двухэтажных особнячков, погруженных в асфальт по самые подоконники окон первого этажа.
Устроились на бетонных блоках, среди густой растительности, со всех сторон закрывших нас от любопытных глаз. Сергей вырвал из моих рук ёмкость с прозрачным содержимым, зубами сорвал кусок фольги и, запрокинув голову, ополовинил. Жарко дыша, схватил отрезанную мной порцию хлеба с колбасой, проглотил — и только после этих манипуляций, обмяк, сгорбился и проворчал:
— Не смогу жить в этом городе без Ромки. Хочу к Палычу во Святую землю. Дашь денег?
— Дам, конечно.
— Заодно вернусь на Гору блаженств и попробую еще раз получить то, что так безобразно растоптал. Да, Мари-и-ишка!.. — протянул он, терзая взлохмаченную шевелюру. — Поможешь её успокоить?
— Помогу, чем смогу. — Повернулся к Сергею, понуро взглянул на него и сказал: — Слушай, если тебе здесь так плохо, давай мы тебя отправим в Мою деревню. А? Можешь туда Палыча с Маринкой привезти. Там хорошо! и люди подобрались добрые. Детки, опять же, детдомовские, старички из Дома престарелых. По-моему, там можно не только потерю друга, но и Третью мировую пережить. Как ты?
— Отличная идея! Спасибо тебе, Платон! Только сначала — с Палычем на Гору блаженств. До сих пор тяготит меня долг — ох, и задолжал я Богу! …и всем ближним. — Выхватил ополовиненную бутылку из пакета, спросил меня: «Не будешь?» — я отрицательно мотнул головой, он решительно тряхнул ее и вылил прозрачную жидкость на землю. — Всё, Платон, начинаю новую жизнь, пора отдавать долги.
Пограничник
Границы, таможни… все строим
и строим стеночки. Простым людям вред, а бандитам все равно не преграда…
кому это нужно-то?
С. Лукьяненко. Чистовик
Сам-то он себя величал PR-менеджер (пи-ар-мэнэджэр, пиарщик, специалист по связям с общественностью). Я называл Дэна пограничник потому, что ему приходилось действовать на границе, где шантаж, взятки, вымогательство — норма, то есть в таких учреждениях, как налоговая инспекция, полиция, суд, прокуратура, городская администрация.
В трудовом коллективе (в конторе, «на ферме») Дэна, скорей всего боялись, во всяком случае, остерегались, пытаясь держаться от него на расстоянии. Вплотную занимался им майор и только в крайнем случае финансовый директор. Майора он не то, чтобы просто боялся — не боялся он скорей всего никого, психопатология такая — майора Дэн остерегался потому, что тот мог одним выстрелом несколько нарушить планы пограничника или, скажем, быть угрозой его несокрушимому, просто удивительному здоровью.
А случилось однажды вот что. Майор, как любого ответственного сотрудника, пригласил Дэна в тир, да, да в наш Политехнический тир, а там, по чистой случайности, остался придурковатый парнишка из предыдущей группы, видимо, не сумел сдать нормы ГТО, вот и решил потренироваться, пока тренер закрылся со старым другом в офисе и «несколько себе позволил». Майор сурово рявкнул на отстающего, велел удалиться, а сам принялся привычно заряжать оружие и раскладывать по огневым точкам. Парнишка обиделся, выхватил спортивный пистолет, из тех, которые обнимают ладонь со всех сторон, и направил его на обидчика. … Когда тренер, услышав выстрел, выскочил из офиса, парнишка с пулей в сердце лежал на полу в луже чего-то трагически-бордового, а майор, как ни в чем не бывало, продолжил инструктаж своей партии стрелков, бросив через плечо тренеру: «Что же ты, товарищ начальник, допускаешь нарушение техники безопасности? Теперь убирай за собой!» И своей команде: «На линию огня, товсь!» Конечно, если бы это случилось в обычном учреждении, начались бы следствие, допросы, аресты и прочие неприятности, а так как застрелили неадекватного субъекта на территории, подведомственной госбезопасности, да еще кадровым офицером, да еще под угрозой применения стрелкового оружия… В общем, дело закрыли, так и не открыв, и даже тренеру ничего не было, так, устное внушение. Но Дэн, как и другие сотрудники, этот инцидент запомнил, а на майора, невзирая на его простецкую внешность, смотрел с тех пор с уважением.
Итак, Дэн «на ферме» занимался связями с коррумпированной общественностью, чувствуя себя в этом социальном болоте, подобно голодной акуле в коралловых рифах — только пасть разевай и глотай всё что ни попадя. А попадало ему в пасть нечто настолько вкусное и в таком богатом ассортименте, что объясняло и одежду из Милана, куда он ездил «развеяться и приодеться», и спорткары по запредельной цене, которые менял раз в квартал, и счета из элитных заведений общественного питания, которые Дэн оплачивал из своего кармана, что давало ему свободу самовыражения, да и «ферме» на создавало проблем.
Разумеется, за Дэном приглядывали наши секретные агенты, да и сам майор глаз с него не спускал, но пограничник делал своё мутное дело просто виртуозно, чем удивлял и стяжал уважение руководства. Иногда, в крайнем случае, когда без этого не обойтись, он приглашал меня или кого-нибудь из Юриных профи — и устраивал показательный «парад-алле» с фейерверком. В таких случаях, парень открывался мне с такой стороны, что даже и не знал, как к тому относиться.
— Ну, сам посуди, — ворчал я Юре, который пытался вникать в наши дела на профессиональном уровне, — это не человек, а киборг, только обаятельный. Он соблазняет и насилует так, что его за это еще и благодарят. Унижает так, что его просят повторить. Грабит и вымогает так, что ему добровольно приносят все материальные средства и умоляют взять. Он умел внушить любую идею и получить желаемое у любого. Наконец, он способен взглядом или неуловимым движением руки парализовать волю, тело противника, палец на спусковом крючке — и, если нужно, направить выстрел самому противнику в сердце или в висок. Он пару раз демонстрировал мне этот фокус, хорошо, что нас было только трое, включая дрессируемого, и тот по щелчку пальцев Дэна забывал, что с ним только что произошло.
— Слушай, Платон, — урезонивал меня друг, — мне приходилось иметь дело и не с такими суперменами. Ничего такого особенного в них нет. Просто талантливые ребята. В конце концов, каждый в чем-то талантлив. Вот, например, у тебя талант в том, что тебе доверяешь бесконечно, рядом с тобой, Платоша, даже дышится как-то приятно, прямо как в весеннем лесу! У Дэна талант пограничника, как ты выражаешься, ему интересно воздействовать на нечистых на руку дядь и тёть, чтоб им было хорошо, супостатам. Ты не волнуйся, друг, пока твой пограничник защищает «ферму» от негатива, он будет приносить пользу — и пусть себе развлекается. Ну, а чуть набедокурит, у нас есть кому его подправить. Так что, не волнуйся, а лучше вспомни, из Луки: «Приобретайте себе друзей богатством неправедным». По-моему, тут есть, о чем поразмышлять, особенно учитывая, что в неправедном обществе праведного богатства просто не бывает, в принципе.
— Юра, дорогой ты мой друг, — чуть не завыл я от боли, — ну как жить в этой стае гиен! Как не свихнуться?
— Так, спокойствие, только спокойствие, как говаривал Карлсон. — Он уже улыбался, только чуть печально. — Знаешь, в чем смысл прививки?
— Примерно, — кивнул я. — Это когда вкалывают ослабленный штамм вируса, пациент болеет в мягкой форме, зато потом на всю жизнь — иммунитет.
— Вот, вот, — закивал Юра, доставая телефон из кармана пиджака. — Мы сейчас тебя прививать будем. — И в трубку, включив громкую связь: — Пограничник Денис? Знаешь, кто звонит?
— Догадываюсь, — протянул абонент.
— Не улавливаю должного уважения в голосе, — проскрипел Юра. — Давай, второй дубль: кто звонит?
— Простите, босс, вы меня застали врасплох, сейчас на балкон выйду. Слушаю внимательно.
— Другое дело! Слушай вводную. Нам с Платоном необходимо прямо сейчас попасть на прием к господину Вальдману.
— Так у него же сегодня бал в мотеле «Суздаль», там иностранцев, как грязи!
— Забирайся на крышу нашей «фермы», там нас ожидает вертолет. Мы скоро будем!
Честно сказать, мне эта идея не очень понравилась. Только ни думать, ни соображать времени не осталось — картинки замелькали, как в калейдоскопе: автомобиль, итальянский бутик, примерка двух костюмов, часов, галстуков, ботинок; лифт на крышу, вертолет, заспанный Дэн в смокинге, легкий сон под стрекот винта, на подлете к Суздалю кофе…
Мне приходилось бывать в мотеле, но я его не узнал: отделка совсем не та, что в советские времена, разве только деревянная крыша осталась, да и публика, как в голливудском кино. Дамы поголовно в вечерних платьях ослепляют сверканием бриллиантов и зубов, мужчины с прямой спиной, динамики гремят нечто ужасно техногенное. Юра протянул музыкантам диск и рявкнул в микрофон: «В древнем русском городе прилично слушать русское ностальгическое!» — чем сразу привлек внимание. Под стон, который у нас песней зовется, группы «Воскресенье» «Научи меня жить» меня закружила высокая дама с вырезами на спине и груди, с тяжелым бриллиантовым колье на шее.
— Вы с кем пришли? — спросила она, растягивая слова.
— Я? Вон, с той тетечкой, — указал подбородком на официантку в кокошнике, с подносом, уставленным бокалами с шампанским.
— Вы не попросите у своей тети бокал для меня?
— Любите халяву? Простите, мне в туалет нужно.
— Мне с вами за компанию можно?
— Не думаю, что это прилично.
— Вы просто не знаете, как красиво я умею это делать.
— Платон, иди сюда, — вскричал Юра, — у нас весело! Только старушку с собой не бери, тут помоложе есть.
— Фу, какой противный мальчишка! — вздохнула дама, взглянув на моего друга.
Проходя мимо официантки в кокошнике, я указал на даму и попросил напоить ее напитком с подноса.
— Познакомься, Платон, это мой приятель Вальдман, мультимиллионер, масон, подлец, вор, и самое главное, по-русски ни слова, говори ему что хочешь, только улыбается и кланяется как китайский болванчик.
Я пожал холодную костлявую руку и оглянулся:
— Где же обещанные молодые?
— Где Дэн, там ищи.
В кресле полулежал пограничник, его окружал цветник из юных девушек. Не успел подойти, Дэн указал на одну из девиц:
— Берите вот эту, босс, она дочь колбасного короля, к тому же отлично танцует. Танец живота.
— Платон, друг, и ты в этом гадюшнике! — Меня схватил за руку Семён, он же Малой, он же Сем-сан.
— Ты здесь с Эрикой? — спросил я.
— В Тулу со своим самоваром? Не шути так. Да она тут половину народу перережет, из ревности.
— Платон, ты посмотри, кто тут у нас за порядком следит! — Юра подвел ко мне монархиста Степана — вот кому я обрадовался.
— Да я тут, чтобы предупредить, — глухо отозвался Степан. — Давайте выйдем на балкон. Поговорить надо.
На просторной террасе кроме человека в черном костюме никого не было.
— Это мой боец, — сказал Степан. — Значит так, Юра и Платон, сегодня ночью здесь будет жарко. Вам лучше срочно уехать. Сем-сан здесь вроде смотрящего, за ним наблюдение, он тебя, Юра, пасёт, возможно постарается устранить. Не думаю, что у него что-либо получится, но осторожность не помешает. Оставляйте Дэна, я его прикрою, а сами — сию же секунду домой. И, Юра, я серьезно — Сем-сан тебя не оставит в покое, это не от него исходит, это его заказчики из Японии тебя заказали. Как вернусь домой, мы с тобой разработаем операцию прикрытия, надо тебя защитить. Ты нам еще ох, как нужен! Всё, бойцы, в рассыпную!
Мы с Юрой спустились по лестнице с балкона на отмостку, прошли по газону в сторону вертолета. Я на прощание оглянулся. Дама, с которой я танцевал под песню «Научи меня жить» прижалась лбом к витринному стеклу и плакала. Вот и получил прививку — иммунитет на всю жизнь.
— Да, ладно тебе грустить! — В кабине вертолета Юра хлопнул меня по колену. — Мы еще повоюем! Главный бой — впереди!
— Думаешь, эти люди обречены?
— Ну не все! Кого-то Степан, как он сказал, прикроет, а кому-то позволит друг друга самоуничтожить. Обычная практика в таких операциях. Да не волнуйся ты. Главный бой — впереди.
Наша стрекоза взмыла в черное небо в россыпи звезд, я взглянул на освещенный яркими огнями мотель, блеснула вода в речке, огибающей сооружение, откинулся на сиденье и уснул безмятежно, как дитя.
Прощание
Нет, весь я не
умру
А. Пушкин
Идти по лесу было насколько приятно, настолько тревожно. Я жадно вдыхал острый запах влажной земли, под ногами похрустывали сухие ветви, листья берез и осин и еловая хвоя удивительно бережно хлестали по щекам, обдавая каплями влаги. С неба ниспадал дождевой прозрачный туман. Лучи солнца, выходящего из-за легких туч, высвечивали на объемном полотне поднебесья радуги — они вспыхивали там и тут, гасли, сгорая, вновь рождались и умирали. Подозревал, что иду на казнь, или на похороны, а в голове звучали слова Верлена из песни культового диска Тухманова (ох, сколько же шороху он натворил!..):
Я шел, печаль свою сопровождая.
Над озером, средь ив плакучих тая,
вставал туман, как призрак самого отчаянья.
Во всяком случае, это лучше, чем похоронный марш Шопена, который в детстве наводил на меня смертную тоску. Тогда многие наши родители умирали, не дожив и до сорока, жизнь осиротевших друзей наших менялась далеко не в лучшую сторону — и да, я боялся смерти, ненавидел её, желал как-то уйти от неё, обмануть, перехитрить, победить. Может поэтому слова Пушкина: «Нет, весь я не умру — душа в заветной лире Мой прах переживёт и тлeнья убежит» — вселяли в меня надежду на бессмертье, насколько безумную, настолько светлую. Эта схватка со смертью и привела меня в Православие.
Однако, вот и наш ДОТ. Давненько здесь не был. Снаружи почти ничего не изменилось, разве что деревья подросли, но тропинка наша, по которой мы сюда прибегали, также протоптана, как и всегда. Тяжелая дверь открылась, на пороге стоял Юра, наш бессменный командир, торжественный, ироничный, дружелюбный. Внутри бункера горел свет, стены отделаны дубовыми панелями, под ногами линолеум, а под рабочим столом — даже ковер. В голове принеслось: «Где всё начиналось, там и закончится».
— Помнишь наш разговор после Святой земли у тебя дома?
— Конечно. Ты хочешь сказать…
— Да, кажется, время пришло.
— Боишься?
— Нет, Платон, никогда я не был так спокоен, как сейчас.
— А что, нельзя этого как-то избежать, или хотя бы отодвинуть?
— Нет, Платон, надо, чтобы все случилось именно сейчас. Мы с тобой сейчас в перекрестии сразу нескольких прицелов. Я тебя вывожу из операции, вывожу за линию огня. Ты нужен для продолжения нашего дела. Только так я могу обеспечить твою безопасность, твое будущее и твоей семьи. Ну ладно, друг, долгие проводы — лишние слезы. Прости меня, если обидел. Прости и прощай. Иди и не оглядывайся, и ни в коем случае не возвращайся назад. Так надо. Прощай.
— Прости и ты меня, Юра. Прощай.
Выхожу из бункера, закрываю тяжелую дверь. Иду по лесу, едва передвигаю ногами. На душе камень, в голове — пусто. Нет чувства потери, нет ощущения трагизма, иду будто плыву по течению. За спиной раздался громкий взрыв, земля под ногами содрогнулась, в спину ударила взрывная волна, в небо сорвались птицы, испуганно закричали, с деревьев на меня обрушилась дождевая вода, она пахнет листьями. Иду, не оглядываясь, иду, чтобы никогда сюда не вернуться. Так надо.
Око тайфуна
Перед нашими взорами развертывается
это круглое отверстие, которое и заставило
назвать все явление «глазом» тайфуна.
Над этим кратером видно голубое небо,
лазурное небо летнего пляжа, напоминающее
о радости и отдыхе, и животворное солнце,
бросающее свои лучи почти вертикально.
Французский летчик Пьер Андре
Молэн
Глаз бури, око тайфуна — это область покоя внутри тропического урагана, это когда снаружи ревет ветер, а над центром покоя и тишины сияет чистое синее небо, порхают птицы, жужжат пчелки и слышно, как растет трава. Оглядываясь на тот сравнительно короткий отрезок жизни, который довелось провести на полуострове, вижу себя, вижу всех нас, оказавшихся здесь, — именно в центре небесного покоя. Не знаю сколько времени отпущено мне, отпущено всем нам, только проживаю каждый миг насколько возможно глубоко. …И пусть где-то за горизонтом ревет ураганный ветер, пусть земля содрогается, а люди предаются самым неистовым страстям — всех примирить не удастся — нам бы только подышать свежим воздухом, напоённым ароматом цветов, и передохнуть перед боем…
«И вечный бой! Покой нам только снится», — твердил частенько сквозь зубы мой друг Юра из любимого Блока. Он был воин, впрочем, почему был, в жизни таких парней случаются столь чудесные превращения, забытых — в славных, мертвых — в живых.
Взять хотя бы того дядечку, что проживает под стеклянной крышей — на досуге покопался в сети, сверил его нынешнюю внешность с той, что в прошлом обошла криминальные и силовые медиа-просторы — и вот предварительный результат: мой сосед, скорей всего, тот самый Лёха Черногорский, что наводил ужас по обе стороны криминальных баррикад. Благодаря звериному чутью, сверхчувствительному встроенному в мозг радару, он предчувствовал приближение опасности, подобно Хемингуэю, за десять километров распознавал запах хищника — и, бросив всё, уходил, сбегал, растворялся. И поныне спорят силовики, знавшие его лично, бандиты, авторитетов которых «завалил» сей неуловимый Джо — жив он или не очень. Видимо, зная приемы спецслужб, не особенно доверяют фотографиям застреленного Лёхи, экспертизам и заверениям спецагентов. Не удивлюсь, если окажется, что вежливый добродушный сосед до сих пор в строю, до сих пор выполняет сверхсекретные задания, лишь слегка изменив личность. Да и что там особо менять — внешне-то он такой обычный, что и глазу не за что зацепиться. Таких тысячи — а он один на сто миллионов.
…Прозрачный соленый бриз обтекает скалы с гротами, лаская голубую поверхность моря. Вода прозрачна, подобно полусфере неба, глядящего в подвижное зеркало. Сквозь толщу воды прямо с берега удается разглядеть камешки, рыбки, крабики, освещенные косыми лучами лимонного солнца, играющего с донным населением, заботливо укрывающего малышню. Ветер обшаривает камни, заглядывая в любую щель, потоки воздуха, сливаясь с движениями солнца, навевают невероятный покой.
Приходилось менять пейзажи, приморские селения, широты, только с некоторых пор научился всюду чувствовать себя дома, может быть потому, что на самом деле мой настоящий дом там, в невидимой дали, там, откуда сходит сверкающий луч, освещая каждый миг не всегда правильной моей жизни. Иногда лучик сужался до предела, даже таял, превращаясь в сумрачную тень, а иногда — и это было прекрасно — свет разливался до горизонта, за горизонт, тогда тихая немая радость поселялась в сердце, и я окружал её всеми силами души. Оттуда, из неведомой светлой дали, ко мне тянулись зовущие руки, раздавался таинственный зовущий шепот — и это всегда дарило надежду, по-детски чистую и наивную, потому бесценную.
Здесь, на вытянутом стрелой полуострове, среди густой зелени, домишек с терракотовыми крышами, серпантином улочек, обласканным вездесущим морем — его соленое дыхание пронизывало каждую молекулу здешнего воздуха. Здешнее население ценило свободу частной жизни, никто не навязывал общение со своей персоной, удивляя вежливой робостью, угодливой ненавязчивостью, что в свою очередь, указывало либо на криминальное прошлое, либо на крайнюю степень закомплексованности, что впрочем, меня нисколько не тревожило.
Никогда не замечал за собой подобных привычек, но именно здесь включился в странный ритуал: бритьё классическим лезвием под шутки старого грека, чашечка крепкого кофе с горячей булочкой на террасе кафе у седого курда, покупки овощей и фруктов, сыра, баранины, рыбы и домашнего вина на местном рынке, прогулки по горячим камням петляющих улочек — и конечно, погружение в соленую прозрачную воду. Если сам не подойдешь поприветствовать местного жителя, никто и не решится нарушить твой покой. Здесь всё было не так как в нормальных местах, может поэтому я не удивлялся ничему.
…Например, встреча с Юрой — да, да, с моим старым другом — не вызвала у меня удивление. Мы стояли среди улочки друг против друга, переминаясь с ноги на ногу — и молчали.
— Загорел, как негр, — промолвил он, наконец.
— Думал, я тебя не узнаю? — усмехнулся я. — У какого мясника делал операцию по изменению внешности?
— А ты всё такой же шутник! — Юра обнял меня. — Скучал по тебе. Ну, как ты здесь, освоился?
— Вроде да, — кивнул я.
— Никто не достаёт?
— Наоборот, все такие скромные, — сказал я и осёкся. — Слушай, Юр, а это что… на самом деле?..
— Ага, нечто вроде отстойника. Ни одного случайного жителя. Тут или тебя охраняют, или те, кто охраняет, — и все при деле. К тебе зайдем?
— Конечно, милости как говорится просим.
— Кстати, вон там дом со стеклянной крышей — видишь? — Юра показал за спину. — Там живет на покое вообще легендарная личность. Винца домашнего нальешь? Оно тут уникальное.
— Я тоже заметил, с каждым глотком словно солнце пьешь. Вкус цветочный и цвет золотой. Пей, на здоровье! Так, что за личность?
— Помнишь, устранение арабских наемников на Кавказе? А криминальных авторитетов, решивших подмять под себя столичную власть? А побег из тюрьмы, из которой сто пятьдесят лет никто не бегал?
— Да видел его, ничего геройского: так себе старичок, — спровоцировал Юру на подтверждение моих подозрений, моих сетевых изысканий.
— А знаешь, в чем его главный секрет? Чутьё! Как у зверя — за десять километров опасность чувствует. — Юра будто повторял мои же слова. — Как-то его спросили, можешь ли опыт молодежи передать. А он — не могу, это на подсознании, у меня все в роду по мужской линии охотниками и разведчиками были, одни за линию фронта ходили, и без «языка» никогда не возвращались.
— Я тебе вроде бы докладывал, — усмехнулся я, — у меня вместо звериного чутья — голос ангела моего офицерского. Уж он-то не ошибается.
— А я, собственно, по этому поводу. Прости, необходимо нарушить твой покой.
— Всегда пожалуйста, а то малость заскучал.
— Это ненадолго. Мы мигом — туда и обратно.
Потом был автомобиль, потом — самолет, и наконец, вертолет — полтора часа, и мы на вилле олигарха. Веселый парень лет тридцати с небольшим, босиком, в шортах и рваной футболке вышел нам навстречу.
— Знакомься, это Дэн, — буркнул Юра. — Тот же что «на твоей ферме», только переформатированный.
Честно сказать, не узнал я бывшего пограничника в этом чужом, опасном человеке. Да и меня он тоже предпочел не узнать.
— Проходите, гостям здесь рады! — прокричал возбужденный «парнишка». Он на самом деле, выглядел намного моложе своих лет. — Жареного ягненка, шампанское, виски, фрукты?
— Спасибо, мы спешим, — предупредил Юра.
— Потому и предложил, — схохмил хозяин.
— Где можем поговорить?
— Прошу в беседку.
— Будь осторожен, — прозвучал голос офицера. — Этот «фрукт» очень опасен.
— Неужто мы на него управы не найдем! — молча воскликнул я.
— Держи его в поле зрения, — напряженно скомандовал офицер. — Соберись!
— Так что вас привело в мой скромный дом? — с беспечной улыбкой на лице спросил Дэн.
— Из длинной цепочки по закупке спецоборудования выпала сумма в триста миллионов, — скучным тоном произнес Юра. — Без этой суммы нам оборудования не купить. Вся схема рушится.
— Я-то причем? — развел руками Дэн. — Ищи вора у себя дома.
— Всех проверил, ты один остался.
— Ой, брось ты! — улыбнулся Дэн. — Давай лично дам список тех, кого можно купить. Их там не больше десятка.
— Ты понимаешь, Дэн, сколько голов с плеч слетит? — Юра сузил глаза, глядя в упор на собеседника.
— А мне-то что! — по-прежнему улыбался Дэн. — Меньше народу — больше кислороду.
— Он на самом деле ничего не боится, — прошептал мне на ухо офицер. — Такая у парня психическая аномалия. К тому же на территории виллы существует система распознавания «свой-чужой». Стоит хозяину подать незаметный кодовый сигнал — и в «чужих» полетит экономная порция свинца. Он сам, кстати, всегда находится в зоне абсолютной безопасности, потому такой уверенный в себе.
— Ты что же, восхищаешься им? — недоумевал я.
— Если честно — да! — вздохнул офицер. — Во всяком случае, противник он достойный.
— Так что делать-то? Юре надо помочь!
— Я же сказал — смотри на него во все глаза, скоро проколется.
И я смотрел... Юра уже закипал, он рыскал глазами то по насмешливому лицу Дэна, то по моей физиономии, тяжело дыша. И ничего… Напряжение нарастало, что только забавляло хозяина. Наконец Дэн скользнул взглядом по моему лицу и… осёкся.
— Слышь, Юр, а чего этот все время таращится? — кивнул он в мою сторону. — Зачем смотрит на меня?
— На то и глаза, чтобы смотреть, — спокойно ответил Юра. Кажется, и он почувствовал близкую развязку критической ситуации.
— Послушайте, я вас не знаю и знать не хочу, — зашипел Дэн в ярости, с трудом отводя от меня глаза. — Хорош на меня пялиться!
Наконец, он через силу поднял лицо, будто кто-то невидимый взял за подбородок и дернул вверх, — и наши глаза встретились.
— Есть контакт! — вскрикнул мне в ухо офицер. — Запиши на листочке и передай Юре: вся сумма в сейфе на втором этаже, часть валютой, часть акциями абсолютной ликвидности, шифр — дважды число зверя (кто бы сомневался!), внести нужно сегодня же по коду три ноля двести шестьдесят. Всё!
Я записал информацию, передал Юре. Тот немедленно метнулся на второй этаж, за ним последовал дюжий телохранитель, он же пилот, он же снайпер, закованный в кевларовый бронежилет. Мы сидели с Дэном рядом, он окаменел, побледнел, по лицу пот катился градом.
— Что это с ним? — спросил я у офицера. — Ты же говорил, он бесстрашный.
— Парнишка представлял себе смерть — это, раз и небытие, вроде вечного сна. Такого исхода он не боялся. Я же приоткрыл ему окошко в ту область, где побывали вы с Ириной — это на него и подействовало.
— Тогда понятно, — протянул я. — Ну что же, будем считать, Дэну повезло — такое «окошко» навсегда запомнится.
Из дома вышел Юра с пилотом, в руках они несли чемоданы, Юра махнул рукой в сторону вертолета. Мы с ним сели в стеклянную колбу кабины, застрекотал двигатель. Я смотрел на Дэна, он, как кролик на удава, смотрел на меня, пока не скрылся из виду.
— А с ним-то что? — спросил я.
— Потом разберемся, — отмахнулся Юра. — Никуда не денется. От нас еще никто не уходил. Спасибо, тебе, Платон!
— Не мне, но ангелу моему, офицерскому.
— Наконец, и обо мне вспомнили, — усмехнулся голос.
Юра укатил по своим делам, а я вернулся в привычный статус-кво. Уверен, старый друг намеренно не спросил про Ирину, во-первых, он и без того всё знал, а во-вторых, чтобы лишний раз меня не тревожить.
Не думал, что такое сакральное понятие как мистика, когда-нибудь войдет в мою жизнь. Помнится, читал Владимира Лосского:
«В известном смысле всякое богословие мистично, поскольку оно являет Божественную тайну, данную Откровением. С другой стороны, часто мистику противополагают богословию, как область, не доступную познанию, как неизреченную тайну, сокровенную глубину, как то, что может быть скорее пережито, чем познано, то, что скорее поддается особому опыту, превосходящему наши способности суждения, чем какому-либо восприятию наших чувств или нашего разума.»,
Филарета Московского:
«догмат, выражающий богооткровенную истину, представляющуюся нам непостижимой тайной, должен переживаться нами в таком процессе, в котором вместо того, чтобы приспосабливать его к своему модусу восприятия, мы, наоборот, должны понуждать себя к глубокому изменению своего ума, к внутреннему его преобразованию, и таким образом становиться способным обрести мистический опыт. Богословие и мистика отнюдь не противополагаются; напротив, они поддерживают и дополняют друг друга»,
до боли в глазах вчитывался в дивные гимны Симеона Нового Богослова:
«Благодарю Тебя, что Ты – Сущий над всеми Бог – сделался со мной единым духом неслитно, непреложно, неизменно, и Сам стал для меня всем во всем: пищей неизреченной и получаемой даром, постоянно переполняющий уста моей души и стремительно текущей в источнике сердца моего, одеждой блистающей и опаляющей демонов, очищением, омывающим меня бессмертными и святыми слезами, которые дарует Твое присутствие тем, к кому Ты приходишь.»
Сам же себе говорил: куда тебе до таких высот, сиди в своей
песочнице и лепи куличики из песка. Однако, случилось нечто мистическое и в
моей тогда еще юной жизни, и захватило, и унесло загадку в будущее.
Вот она, загадка, передо мной — только руку протяни, но много лет она оставалась тайной. Дело в том, что в Дневнике офицера, написанном рукой Георгия без малого сто лет назад в самые трагические годы его жизни, да и всей страны — имелись страницы, написанные византийской вязью. В свое время лично для себя законспектировал почти весь Дневник, а конспиративные страницы попросту сфотографировал и приклеил после текста в виде приложения — так, на будущее, когда поумнею, когда найдется время. И вот оно пришло. Помнится, у апостола Павла прочел слова в послании к Галатам: «когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего» — и вот эта «полнота времени», видимо, настигла и меня.
Ну в конце концов, не всё же в море купаться, да услаждать уста простыми изысками средиземноморской кухни — и меня повлекло в мистические глубины. Как это случалось и раньше, рука сама открыла рукописный конспект Дневника, разыскала вклеенные листы с фотографиями. Мелькнула идея: да сейчас в храме епископу сослужит протодиакон, мне говорили, что кроме гудящего баса, он еще обладает глубокими богословскими знаниями, так как учится в академии. Взял конспект и отправился в наш маленький храм-часовню, где и нашел протодиакона, отдыхающим после трапезы под сенью густого куста жасмина. Кажется его называли как-то мудрено — отец Хризостом, обратился к нему. А он, как знал, взял конспект, сразу пролистал до византийской вязи, в его глазах мелькнул искренний интерес, кивнул да и велел зайти через день, ближе к вечеру. Зашел.
— Вот, что брат мой возлюбленный, — прогудел отец Хризостом, — ты, наверное, сам не знаешь, насколько интересный документ тебе достался. Я с твоего согласия, снял с него копию, чтобы изучить более детально и, буде возможно, использую в академических целях. Кто автор, ты поди и не ведаешь?
— Ведаю, — буркнул я, — расстрелянный русский офицер.
— Это многое объясняет, — снова пробасил протодиакон. — Таковым мученикам многое даётся. Ладно, не стану тебя томить. Тебя ведь Платоном зовут? В рукописи твое имя упоминается, правда, в сокращенном, лигатурном виде. Я его расшифровал и написал полностью. Возьми! — Протянул он распечатку на компьютере. — Тебя ожидает преинтересное чтение!
И вот, наконец, я дома, наконец-то, сижу за столом под лампой и читаю это самое «преинтересное».
«Брат мой во
Христе, возлюбленный Платон! Не удивляйся тому, что обращаюсь к тебе, ведь ты
еще не родился. Но ты уже здесь, рядом со мной. Ты станешь моим сотаинником,
моим читателем. Меня в скором времени
расстреляют, но я не боюсь казни, наоборот — жду с нетерпением — ведь это
означает близкую встречу с Тем, Кому я служил, Кого люблю больше жизни. А
сейчас необходимо передать тебе и тем, кто вместе с тобой восстанавливает
монархию, некоторые сведения, открытые мне. Господи, благослови!
Время гонений на
Русскую Церковь растянется на двенадцать десятилетий. Прольется много крови, но
эта кровь мучеников смоет грех богоотступничества, грех предательства Царя.
Ваша задача состоит в том, чтобы подготовить русский народ к идее Самодержавия.
Над вами будут смеяться, вас будут гнать, травить и всячески мешать. Это
необходимо для проявления в вас стойкости и верности нашему делу.
Перед воцарением
Царя грядущего должна произойти война, которая унесет жизни многих миллионов
людей. Но враг наш коварен и умён, поэтому он найдет неизведанные возможности
уничтожения людей. Главная задача врага — соблазнение, ложь и убийство души, а
лишь потом тела. Несколько миллионов русских солдат будут уничтожены из-за
богохульства, сквернословия и отравления духом сребролюбия. Но это также
необходимо для очищения души перед Страшным судом. Мировая война изменит
русских православных людей, они станут для Царя грядущего опорой. После
воцарения Монарха в Россию поедут спасаться миллионы людей из разных стран.
Необходимо будет их встретить, просветить и устроить их жизнь.
Сейчас, Платон,
когда ты читаешь моё зашифрованное послание, стоит оглянуться и ты увидишь,
сколько в окружающем мире лжи, предательства, соблазнов. Увы, многие из твоего
окружения, предадут тебя, попытаются ограбить, уничтожить то, что ты созидаешь
для будущей Монархии. Будут также покушения на жизнь твою и твоей семьи. Обещаю
сделать все возможное, чтобы тебя защитить.
Наверняка ты сейчас
думаешь, что вас, детей света, очень мало. Прошу не забывать слова, сказанные
Господом пророку Илие: «Я сохранил для Себя семь тысяч праведников, не
преклонивших колена перед Ваалом». Господь всегда сохраняет для Себя сокрытых
до времени верных рабов Своих. Придет время, ты увидишь, как их много, и
удивишься их числу.
Вот несколько
реперов, которые укажут тебе на скорое время прихода Божиего помазанника.
Развращение людей
на Западе достигнет невыносимых пределов.
Ложь и подлость
пронизает все институты власти. Войдёт в каждый дом.
В то время, как
Россия восстановит свое военное могущество, Запад начнет искать невоенные пути
уничтожения России: появится климатическое оружие, зомбирующее, провоцирующее
сумасшествие, эпидемии, экономическое воздействие и прочие гадости — их в
ассортименте врага человеческого немало. Защититься от этих козней поможет
только вера в Бога, молитва, чистота тела и души.
Конечно, когда
Божиему долготерпению придет конец, начнутся библейские глады, моры,
землетрясения, наводнения, войны. Целые страны и континенты провалятся под
воду. Но Россию Господь оградит от большинства напастей — это Его земля и к ней
Его особое благоволение. Вот почему из многих стран потекут миллионы людей в
Россию — они побегут для спасения своих семей.
На волне Божиего гнева
на главы врагов, чудесным образом для верных, по молитвам миллионов русских — и
всех детей света — победителем войдет в Москву Государь и будет принят народом
с восторгом и благодарностью. Конечно, первым делом Божий помазанник
«очистит гумно и соберет пшеницу в житницу, а солому
сожжет огнем неугасимым». Как это случалось и раньше в истории
России, благодать Божия будет во всех делах помогать Государю — погодой,
богатыми урожаями, светом невечерним. От сияния света истины враги сами побегут
за пределы Святой Руси, а кто попытается остаться в качестве представителей
пятой колонны, будут выявлены и уничтожены — напоминаю, Государь грядущий будет
воином, беспощадным к врагам и любящим отцом детям света.
И все-таки найдутся
миллионы тех, кто поедут на Ближний восток встречать антихриста. Ты удивишься,
как много будет таких беженцев из России! В том числе тех, кто сегодня выдает
себя за православных. Много лет таковых готовят к предательству, но не долог их
век и страшная кара настигнет, где бы они не оказались — от Божиего гнева нигде
не скрыться.
Но недолго поклонники сына погибели будут пировать-веселиться на «земле духовного Содома и Египта, идеже и Господь наш распят» — в конце концов, как всегда случалось в истории человечества, Бог отвернется от «мерзости запустения на святом месте», земля выгорит от жары, начнется голод и жажда. Обманутые сыном погибели люди, потребуют еды и воды, но не получат ничего кроме лживых обещаний и призыва идти с огнем и мечом в Россию, где еда и вода пребудут в достатке… Тут и придут последние времена. Господь Своим вторым пришествием завершит исторический этап великой человеческой ошибки — и восстановит царство любви и света. Теперь уже навечно.»
Как ни странно, послание моего ангельского Офицера не столько удивило или шокировало меня, наоборот — утвердило в том, что всё это уже имелось в памяти моего сердца. Ведь в зашифрованном послании я находил отражения и Писания, и Предания, и пережитого реального опыта. Может поэтому, каждое слово отзывалось в глубине сознания всплеском резонанса того самого «благодарного восторга», о котором упоминает Георгий. Итогом того мистического явления в душе стала ежедневная молитва о даровании нам Божиего помазанника. Подобно Моисею, мысленно обратившемуся к Богу и получившему в ответ громогласное: «Что ты вопиешь ко Мне!», где бы ни был, чем бы ни занимался — мысленно вопил моему Господу о даровании России Государя грядущего — и вера в необратимость величайшего дара крепла с каждым днем.
Искушение № 100
нельзя с точностью установить,
что перед тобой – оригинал или
копия;
нельзя понять, когда набор
зеркал
возвращает реальный образ,
когда искаженный,
а когда нечто среднее между тем и другим
Артуро Перес-Реверте. Клуб Дюма…
Только раз мне удалось увидеть садовника. Раньше-то приходилось только удивляться тому, насколько аккуратно некто таинственный поливал и подстригал газоны, кусты, собирал упавшие листья. Может быть, во время моих прогулок с какого-нибудь центрального пункта ему подавалась команда: клиент покинул место постоянной дислокации, можно приступить к уборке территории. А однажды все же удалось застать моего таинственного ландшафтного дизайнера — им оказался энергичный парень в спецовке защитной раскраски, с тележкой с инструментами, среди которых не без удивления обнаружил садовый пылесос, которым он и собирал сухие листья. Видимо команда на сворачивание работ запоздала, или наушники не позволили услышать, я подкрался к нему сзади, тронул за локоть — парень вздрогнул, и мне пришлось его успокаивать. Я даже предложил ему помощь, от чего он пытался отказаться, но я упрямо взялся за грабли, похожие на расческу для травы. За работой мы познакомились, разговорились.
— Ты грек?
— Верно, а как вы узнали?
— На Ближнем Востоке бывал, а там, как увидишь красивого человека, значит грек.
— Благодарю.
— По-русски говоришь без акцента…
— Таким было условие приема на работу.
— Как твое святое имя?
— Никита.
— Моё — Платон. Послушай, я тут недавно, мало чего знаю. Как думаешь, можно в какой-нибудь город съездить? Ну так, на экскурсию.
— Можно, конечно, — кивнул садовник, — только в первый раз лучше в сопровождении.
— Будешь моим сопровождающим?
— Конечно, с удовольствием.
И вот мы уже катим по серпантину двухрядной дороги вдоль морского побережья, сворачиваем в долину, а за поворотом открывается вид на небольшой городок. В лавке покупаю солнечные очки, белые шорты, просторные рубашки из невесомой ткани, маску, ласты. Загружаем в автомобиль. Угощаемся крепким кофе, заказываем салат и местных крабов. Мои глаза непрестанно скользят по окружающему пространству, словно чего-то жду, кого-нибудь ищу. …И наконец, нахожу.
Вот она, подобно «Атомной Леде» Сальватора Дали, нет не сидит — плывет над голубыми плитками пола кафе, над стеклянным квадратом стола, презирая притяжение земли, игнорируя жадные взоры мужчин. Никита проследил мой взгляд и, приоткрыв рот, даже произнес гортанное «йо-о-о-у-у», но уступив мне первенство, заставил себя умолкнуть и смущенно потупил глаза. Тем временем прекрасная незнакомка допила свой «атомный» кофе — нет, не встала — разогнулась лозой и плавной танцующей походкой тронулась в сторону серебристого кабриолета, обдав меня волнующим ароматом духов. Казалось, внутри ее гибкого тела и костей-то не было — настолько изящным и пластичным оно казалось. Прежде чем сесть за руль автомобиля, незнакомка бросила на меня взгляд пронзительно синих глаз, словно обещая вернуться и продолжить — что? — очарование, обуяние, материализацию призраков, всплески памяти?
Мы с Никитой еще трижды ездили в город, и каждый раз незнакомка появлялась в моем поле зрения, скользила по краю сознания, вызывая из памяти волны неясных воспоминаний, обдавала ароматом духов и, переливаясь бескостным телом, растворялась в жаркой дымке.
Как-то утром после традиционного бритья у старого грека и кофе у седого курда, купив на рынке пару огромных сочных персиков и гроздь винограда, отправился на свой дикий пляж. Сплавал к ноздреватому циклопическому гроту, навестил стремительную телом престарелую годами барракуду, трусливого толстого угря, робкую аляповатую каракатицу, распугал почтенное семейство ставрид, врезавшись в самую середину серебристой стайки — совершив традиционный круг почета, выполз на берег. После того, как невольно глотнул соленой воды, захотелось заесть горечь сочным персиком и лиловым виноградом, сладким как мед. Растянулся на тростниковой циновке, подставив тело в капельках морской воды и пота ослепительно-яркому солнцу — и погрузился, как только что в водяную толщу, в пучину воспоминаний.
Приезжаю как-то в Мою деревню, там вовсю кипит работа, мелькают топоры, звенят пилы, пахнет горьким битумом, сладкой древесиной, духмяной травой. У каждого работника имеется комфортабельное жилье в городе, а здесь реализуется персональное стремление людей к земле, к бревенчатым избам, к садам, огородам, лесам и полям. В конторе замечаю новое лицо — стройная брюнетка в сарафане из светлого хлопка, поднимает глаза — меня прожигают две синих молнии. Впрочем, глаза сразу опускаются, устремляясь на пачку бланков на столе. На меня накатывают дела, вопросы, раздаю зарплату «рабочим и крестьянам», пригоняю трактор, грузовик, комбайн — а в голове отголосками из юности звучит песня Хампердинка «Blue spanish eyes» («Синие испанские глаза»). Еще раз или два встречал брюнетку в офисе, на корпоративе и в «нашем придворном» ресторане, где у нас были свои обеденные столы для сотрудников и кабинет для руководства. Каждый раз удивляла яркая синева глаз девушки, но как всегда, наступали дела, заботы, впечатления, которые вытесняли, затмевали призрачную синеву и глаз, и неба, и воспоминаний.
…Выплываю из толщи памяти, ругаю себя блудником распоследним, вспоминая о своем все еще непривычном семейном статусе, слышу краем уха шорох прибрежной гальки. Кто-то весьма нежелательный крадется по краю моего пляжа. Глаз не открываю, жду, может поймет пришелец, что он здесь лишний, чужой и оставит меня в покое. Кажется, шаги удаляются. Приоткрываю один глаз, нехотя отрываю голову от циновки, приоткрываю второй глаз, навожу резкость — ну, надо же! — та самая незнакомка из города, из кафе, из кабриолета, извиваясь гибким телом без костей, удаляется по тропинке вверх, скрываясь за кустами лавра, за оливой, каштаном.
С тех пор как застал Никиту за работой в саду, он перестал скрываться, а я на всякий случай уведомил службу безопасности, что он мой сопровождающий-охраняющий и вообще друг, к тому же мне нравится и самому руками потрудиться на досуге.
— Слушай, Никита, — обратился к нему, — ты не мог бы как-нибудь аккуратно узнать, что за незнакомка преследует меня. Ну, та самая, которую мы видели в городе. Дело в том, что сегодня она появилась на моем пляже.
— Сейчас узнаю, — кивнул головой в бандане, достал телефон, отошел на пять шагов и зашептал в трубку.
— Ну что? — спросил я, не пытаясь скрыть волнения.
— Сказали, что она кадровый сотрудник, — пожал он плечами, — из числа вновь прибывших по системе ротации.
— Значит, как минимум, не шпионка и не террористка, — выдохнул я с облегчением. — Знаешь, Никит, а давай, сегодня по этому поводу съездим в город и посетим какое-нибудь приличное заведение с местной кухней, музыкой и зажигательными танцами до утра!
— Да я не против! — улыбнулся парень. — С вами хоть куда отпустят. У вас особый статус.
— Вот и давай использовать мой статус в мирных целях. А то, знаешь ли, засиделись мы тут с тобой, заскучали, а душа праздника требует.
Заведение нашлось именно такое, как нам хотелось: на берегу моря, с нависающей прямо над столиками скалой, с прохладным бризом, обвевающим разгоряченные тела, с музыкой и танцами внутри помещения и возможностью поговорить за столом на террасе, так чтобы не пришлось кричать друг другу в ухо. Название тоже под стать — Таверна. По совету грека Никиты и веселого официанта стол заставили щедро: мусака, ягненок, сыры, блюдо с морепродуктами, ассорти из перцев, домашнее вино, целый кувшин ледяного дайкири, кофе «до того, во время того и после того».
С аппетитом набросились на еду, во рту загорелся пожар, мы его тушили прохладным вином вперемежку с дайкири, в котором льда было не меньше половины объема. Горячие острые блюда с прохладительными горячительными напитками возбудили в нас желание двигаться и танцевать.
Сравнительно бесшумную террасу с баюкающим шорохом прибоя мы решили сменить на грохочущий танцпол с живыми музыкантами, пожалуй даже слишком живыми — они прыгали по сцене, извивались с инструментами на руках, на шее, за спиной, обнаженный по пояс потный ударник, сверкая зубами и черными глазами, так залихватски лупил по тарелкам и барабанам, что казалось, медные диски улетят, а белые мембраны барабанов вот-вот лопнут — всё это сумасшествие озарялось яркими вспышками кислотных цветов, вибрировал пол, стены, потолок и даже занимающая торцевую стену часть скалы, выходящую наружу, наверное, погулять на свежем морском воздухе.
Мы с Никитой оказались в эпицентре музыкального урагана, нас окружила толпа засидевшихся людей, жаждавших подвигаться. Наши ритмичные танцевальные па, не лишенные звериного изящества, почему-то вызвали восторг танцоров, они отступили от нас насколько было возможно, а мы оказались в центре круга, стихийная публика нам аплодировала, оттопыривали в восторге большие пальцы, показывали «V» — жест победы, наверное, над скукой, по-американски тыкали в нас указательным пальцем, юные танцоры размахивали руками, изображая ветряную мельницу, и даже рок-музыканты одарили нас доброжелательными рифами на гитарах и барабанным боем, в такт нашим глиссирующим пассам…
Но что это? Из лилового облака неона выплыла все та же незнакомка, добавив женственной гармонии в наши грубоватые мужские изгибы. Но как она двигалась, как переливалось серебристое обтягивающее платье! Голубая комодская куфия, черная мамба, кустарниковая оранжевая дикея, изумрудная анаконда — и большеглазая пугливая газель, ягуар в длинном прыжке, черная ленивая пантера, палевая грустная пума — это всё она! Как это случается на танцах, музыкальный ритм, чудесным образом и весьма кстати, сменил грохочущий гнев на мелодичную милость — Никита оказался в объятиях тощенькой американки в рваных шортах и драном топике, я же — обнимал узкую талию прекрасной незнакомки, сверкающей серебряными бликами вечернего платья, держа меня на дистанции (выстрела?..).
— Кажется, мы уже не раз и не два встречались, — произнес я, по-прежнему задыхаясь, то ли от быстрого танца, то ли от близости такой женщины. — Не пора ли нам познакомиться?
— Сирена, — выдохнула она мне в ухо, левое, кажется.
— Весьма соответствует. А меня…
— Знаю — Платон.
— Так это вы?.. — изумился я, лихорадочно перелопачивая завалы памяти. — …Та девушка в конторе Моей деревни с бланками нарядов, на сцене корпоратива, в ресторане за столом сотрудников за солянкой, наконец, в городском кафе с атомным кофе и на диком пляже непрошеным гостем?
— Посмотрите на меня, пожалуйста, — протянула она напевно, еще больше отдаляясь от меня. — Что вы увидели?
— Ну, во-первых, «Blue spanish eyes» из песни Хампердинка — первое, что бросается в глаза… Что еще? Иссиня-черные волосы (что, впрочем, можно покрасить в любой цвет), смуглая качественная кожа здорового человека, длинная лебединая шея, стройное гибкое тело… Кстати, где вы научились так здорово двигаться?
— Это совсем просто: художественная гимнастика, плавание, бальные танцы, фитнес, лаун-теннис.
— Карьера еще… А жить когда?
— В процессе, — пожала она плечами, открытыми, красивыми, беззащитно-трогательными.
— Итак, что же, вот это всё, — она обвела пальцем свой блистательный образ, — ничего вам не говорит? Что, никаких ассоциаций?
— Да ассоциаций-то как раз навалом, — произнес я, уводя даму с танцпола на террасу.
— Значит, все нормально, — почему-то сказала она, доставая из сумочки телефон.
— Вам говорили, что ваша внешность оказывает такой эффект, — я почесал пальцем лоб, — ну, примерно, как наезд тяжелого грузовика. Присаживайтесь за наш стол, тут еды — на роту голодных новобранцев. Вот чистая тарелка, приборы, ешьте на здоровье, приятного аппетита.
— Очень кстати, я голодна, как…
— …Пантера, — ляпнул я первое, что пришло в голову, из числа тех самых ассоциаций.
— Ну да, примерно, — сказала она, набирая номер и слизывая из раковины устрицу. — Простите, один короткий звонок. — И в телефон: — Сестричка, привет, это я. У меня все нормально. Объект в порочащих связях не замечен. Можешь спать спокойно. Пока!
— Я бы не спешил с такого рода заявлениями, — пробубнил я, разглядывая появившихся на террасе Никиту с подружкой в драном вечернем наряде. — Все мы ходим по краю пропасти. Как правило.
— Ну ладно, поели, попили, потанцевали — пора домой, в люлю. — Сказал я, подзывая официанта. — Обернувшись к Сирене: — Вас подвезти?
— Спасибо, я тут с кавалером. Да вот он, — махнула она рукой в сторону красавчика в белом костюме.
И тут я узнал своего соседа под стеклянной крышей. Только что это — вместо «тихого скромного старичка» я увидел элегантного господина с голливудской улыбкой на сияющем лице без единой морщинки, похлопывающего по плечу приезжую оскароносную знаменитость из области элитного кинематографа. Ну, Лёха Черногорский, ты даешь!
— Ладно, коли так, — взмахнул я рукой на прощанье. — Никита, прощайся с дамой, тебе еще меня транспортировать.
Мы сели в наш бронированный джип и сквозь огни в черной ночи, под насмешливое мигание ярких звезд — запетляли по дорожному серпантину домой.
— Вот так, за номером сто ставим птичку — расчет закончен, — пробурчал я.
Мы новые
от покаяния и благочестивой жизни они
изменились и стали очень благообразными
прп.
Силуан Афонский
Наверное, говорить о том, что мы привыкаем к чудесам, не совсем правильно. Каждое чудо Божие — уникально и восхитительно уже потому, что в миг его проявления чувствуешь своё недостоинство, собственное ничтожество перед всемогуществом Подателя. «Привычка к чудесам» выражается в том, что удивление не поглощает чувства, а рождает благодарность.
Как это часто бывает, я был предупрежден. С некоторых пор перед сном читаю или слушаю в аудиоверсии книгу «Старец Силуан Афонский» — это успокаивает и одновременно укрепляет. В тот вечер прочел вот что:
«Знал я одного мальчика. Вид его был ангельский; смиренный, совестливый, кроткий; личико белое с румянцем; глазки светлые, голубые, и добрые и спокойные. Но когда он подрос, то стал жить нечисто и потерял благодать Божию; и когда ему было лет тридцать, то стал он похож и на человека, и на беса, и на зверя, и на разбойника, и весь вид его был скаредный и страшный.
Знал я также одну девицу очень большой красоты, с лицом светлым и приятным, так что многие завидовали ее красоте. Но грехами потеряла она благодать, и стало скверно смотреть на нее.
Но видел я и другое. Видел я людей, которые пришли в монахи с лицами, искаженными от грехов и страстей, но от покаяния и благочестивой жизни они изменились и стали очень благообразными. Еще дал мне Господь увидеть на Старом Русике во время исповеди иеромонаха-духовника во образе Христа. Он стоял в исповедальне невыразимо сияющий, и хотя он был весь белый от седины, лицо его было прекрасным и юным, как у мальчика.
Подобным образом видел я одного епископа во время Литургии. Видел я также отца Иоанна Кронштадтского, который от природы был обыкновенный по виду человек, но от благодати Божией лицо его было благолепно, как у ангела, и хотелось на него смотреть. Так грех искажает человека, а благодать красит его»
Прочел и сразу мысленно улетел к испанской Инессе, моей русской Ирине. А следующим утром, после бритья, кофе, рынка и купания, вернулся домой и приступил к приготовлению праздничного обеда — и с этим справился на удивление вдохновенно и ловко. Стол в гостиной накрыл скатертью ручной работы, купленной у старой гречанки, видимо именно к такому случаю. Расставил блюда: курицу фаршированную грушами, салат Цезарь, запеченные на гриле перцы, помидоры, баклажаны; блюдо с зеленью, оплетенную бутыль домашнего золотистого вина. Переоделся во всё чистое, белое — и вышел во двор открывать калитку. И да! — как говорится, предчувствие меня не обмануло — из-за угла с кипарисом вышла она и легкой походкой, едва касаясь босыми ступнями камней, подошла ко мне. Мы замерли, мы не узнавали друг друга, мы смотрели и дивились — вот оно чудо из чудес, о котором предупреждал блаженный Силуан — да, да, мы стали другими.
В те мгновения перед нами пронеслись дни нашей дружбы. Как на утёс накатывали на нас бурные волны обид, измен, гордости житейской, злобной агрессии — обрушились, обмыли и откатились в прошлое. То, что испытывал я, то, что отразилось на её лице, было столь чисто и прозрачно, высоко и блаженно — как в детстве, как на земле не бывает, а лишь в сказке или в самых потаенных мечтах. И пусть это будет лишь несколько мгновений, но пусть будет!
Инесса, моя Ирина — стала настолько красивой, словно всё самое лучшее, что отразилось в лицах Испании, в ликах Святой Руси — впитало ее существо и осияло это юное лицо с огромными синими глазами, стройную фигурку, нежную улыбку на девичьих губах — и стала она родной и близкой.
— Не прогонишь? — прошептала она, потупив очи.
— И не надейся…
Я бережно взял ее за руку и провел в гостиную, принес хрустальную вазу с водой, в гранях которой отражался солнечной желтизной кружок лимона, она по-восточному омочила пальцы в воде, помяла колесико лимона, промокнула руки полотенцем. Я прочел «Отче наш», и мы приступили к торжественной трапезе. Молча. Не хотелось говорить, мы проживали каждое мгновение с такой невероятной бережливостью, словно вот сейчас всё закончится, и мы вернемся в обычную жизнь, где так мало добра и света. Но счастье продолжалось, даже когда мы незаметно для самих себя съели, всё что было на столе, опустошили плетеную бутыль золотистого вина и, чтобы не осоловеть от обильного обеда, вышли на прогулку, запетляв по горячим камням в сторону моря. Голубая волна в мириадах ослепительных блесток приняла наши тела, окутав серебристой пушистой пеной, закачала прохладой, позвала на глубину. Я знакомил Ирину с живностью, мы пересекали зеленоватые лучи солнца, пронизывающие стеклянистую голубую толщу воды, выбирались на поверхность, брызгались, плескались, снова и снова удивляя обновленными помолодевшими лицами друг друга.
Разговорились только ближе к ночи. Тут она и проговорилась. Оказывается, Ирине пришлось провести три месяца в тюрьме. Правда, она сразу пожалела, что призналась, даже ладошкой рот прикрыла, глянув на меня искоса с явным сожалением.
— Твоя работа? — спросил я мысленно своего воинственного ангела. Встал из кресла у камина, конспиративно, чтобы скрыть возмущение, подложил поленья в огонь.
— Не только, — отозвался Георгий. — В той операции принимал участие целый совет, как из бесплотных сил, так и плотских силовиков.
— И Юра тоже? — чуть не вскрикнул я.
— Ты на результат обрати внимание! Неужели оно того не стоило?
— Да, ты прав, такого преображения я не ожидал.
— Пользуйся! — хмыкнул ангел. — Сочтемся по итогам операции.
Как всегда, мысленный разговор с ангелом меня успокоил и примирил. Я повернулся к Ирине и опять погрузился в созерцание чудесной красоты. Загадочно улыбнувшись, она встала рядом с зеркалом, и я впервые обратил внимание на своё отражение — на меня из серебра амальгамы, из отблесков пламени в камине, из сумрака наступающего вечера выглянуло моложавое загорелое лицо без морщин, сияющее влюбленными глазами юноши. Ирина смущенно опустила очи, прижалась ко мне и тихонько всхлипнула: «Какие же мы с тобой счастливые!»
Разумеется, наши дети, родившиеся по благословению епископа, в любви, красоте внутренней и внешней, — наши близнецы Сашка и Машка, похожие на парочку золотистых одуванчиков — стали источником родительской радости. Тому же способствовали и наши редкие встречи, ведь Ирина чаще всего жила у родителей, в то время как мне приходилось выезжать то в одну страну, то в другую, разумеется, соблюдая все меры предосторожности. Также и каждая моя встреча с семьей обставлялась как секретная операция, в которой участвовали десятки секретных сотрудников — миллиарды, отнятые у государственных воров, направленные на мирные цели, не давали покоя большим людям у власти.
Пока мы подобно Святому семейству сохранялись от невзгод в центре Ока тайфуна, наш двуглавый Ирод откусил сам себе обе головы и самоуничтожился. Нет, за границами зоны относительного покоя не гремели взрывы, не грохотали выстрелы, не пылал огонь масштабных боевых действий — тактика нынешней войны была подобна мягкой силе крадущегося дракона, тем не менее смертельно опасной для нашего неприятеля. Обе преступные группировки исчезли следом за лидерами, одного из них нашли повешенным в недоброй ветхой Британии, другого сначала посадили в тюрьму, после чего скомпрометировали на весь мир, оставив без гроша. Тихо-мирно отошли от дел чины пожиже, под натиском лавины лживой информации пресса интерес к миллиардам, выведенным заграницу, потеряла, свидетелей преступления не осталось.
Это не значит, что нас оставили в покое — у криминальной верхушки власти для нас и таких как мы имелся широкий ассортимент методов ограбления: от кризисов с инфляцией — до эпидемий и противоестественной убыли населения. Не всегда удавалось нам увернуться от очередного витка ограбления. Нередко вступал в силу человеческий фактор, то один, то другой руководитель, не выдержав искушения сребролюбием, предавал, обворовывал «ферму» и пытался скрыться за границей. Одних ловили и наказывали, другие испытали на себе неумолимый принцип «Мне отмщение и Аз воздам», сгорая в собственных автомобилях, тонули на личных яхтах, страдали от скоротечных смертельных заболеваний.
К тому же, основой упор мы делали на созидание и помощь неимущим, что раскрывало над нами зонт молитвенного покрова, опять же великая цель сияющим крестом царя Константина и огненными словами на небе «Сим победиши» — вела нас к низложению безбожного ига с воцарением Божиего помазанника, послужить которому верою и правдою нам еще предстоит.
Мы с женой иногда мечтали, наконец, воссоединиться в нормальную семью и осесть в Моей деревне. Там уже построили вполне комфортабельный поселок из сотни домов, детский дом со школой-интернатом, небольшой дом престарелых. Между монастырем иеромонаха Иосифа и Моей деревней проложили дорогу, сокрытую от глаз суетных дачников. А еще на скале, той самой у которой расстреливали монахов и воинов, мы с Юрой затеяли построить келью, на вершине горы, для созерцательного уединения.
Красивый исход
Ты уже близок, часть времени рассеялась.
Я вижу Твой Крест — он ради меня.
Акафист Слава Богу за всё. Конд. 11
Юра — красивый парень. Женщины, которые ему сопутствовали — также были одна другой краше. Юра и жил-то по-особенному изящно, так же и двигался, действовал, думал, мечтал. Умереть тоже должен был красиво. Только напоследок ему предстояло совершить нечто такое — из ряда вон. …И он женился.
— Кого ты выбрал на роль невесты?
— Почему на роль? Эта женщина станет мне верной женой, я в этом уверен.
— Может, откроешь тайну — кто она, как зовут?
— Ты с ней знаком, это Сирена, сестра твоей Инессы.
— Да-а-а? И давно ты с ней?
— С тех пор, как она появилась в твоей фирме. Долго присматривался, направлял ее на курсы телохранителей, бухгалтеров, секретарей. Выращивал как элитный цветок в оранжерее.
— Я с ней встречался в городе и на пляже. Мы с ней ужинали в Таверне, танцевали.
— Знаю. Она тебя тестировала на верность жене. Сестре своей. Инесса почему-то решила, что такой красавец-мужчина как ты просто не может не гулять от нее. Ревновала. Вот и подослала сестричку. Но ты с честью выдержал экзамен. Так что всё у вас (и у нас) хорошо! А сейчас выдалась свободная неделя, и мы решили пожениться и сыграть свадьбу. Ты не против?
— Я-то не против! А почему ты меня спрашиваешь?
— А кому, по-твоему, я могу доверить быть свидетелем? Кто в храме будет держать венец над моей головой? И кто станет крёстным моему сыну?
— Так сын уже того… запланирован?
— А как же! Что за семья без детей? И первым у нас будет мальчик! Юрий-младший.
Выдержав небольшую паузу, вероятно для акцентирования внимания, друг поднял на меня глаза и произнес с расстановкой:
— Разберешься со мной, пройдет сорок дней — и собирайтесь потихоньку домой. Пора возвращаться. Пора!..
— Принято! — кивнул я согласно. — Я и сам по дому соскучился.
Юра и на этот раз всё сделал красиво. И погода выдалась солнечной, безветренной и тихой. Казалось, даже небеса благословляли этот день и наше скромное торжество. Во время венчания яркий луч света облистал новобрачных, окружив парочку в белых одеждах и золотых венцах светящимся ореолом.
На правах свидетеля я произносил долгий веселый тост. Юра выслушал речь, вытянувшись по стойке смирно. Между мной и другом установилась тайная связь, будто мост протянулся, крепкий, светлый, неразрывный.
Юра благодарно улыбнулся — и в то мгновение его сердце пронзила пуля.
Я не слышал звука выстрела, не обращал внимания на поднявшуюся беготню, суету, крики, плач. Я неотрывно смотрел на друга и… любовался счастливой улыбкой на абсолютно спокойном лице. Наверное, именно к такой смерти он готовился, о подобной кончине мечтал. К моему плечу прислонилась Сирена. Она тоже улыбалась, грустно и светло. Взгляд её синих глаз оторвался от лица покойного и устремился в безоблачное голубое небо, будто сопровождая душу, вырвавшуюся из телесного плена, воспаряющую в небеса. Руки ее бережно обнимали живот, где произрастал и набирал сил Юрий-младший.
Во время чтения акафиста «Слава Богу за всё», который всегда разгонял тоску и поселял в душу скорбящего надежду и светлый покой, вот эти слова 12-го кондака особенно порадовали меня:
«Я видел много раз отражение славы Твоей на лицах умерших. Какой неземной красотой и радостью светились они, как
воздушны, нематериальны были их черты, это было торжество достигнутого счастья,
покоя; молчанием они звали к Тебе. В час кончины моей просвети и мою душу,
зовущую: Аллилуия!».
Именно вот это «отражение славы Божией на лице умершего», но уже и бессмертного Юрия — «неземной красотой и радостью светилось оно» на улыбающихся губах родного лица и оно, как солнце и во тьме светило, одаряя нас всех высокой надеждой.
— Гражданин начальник, я его успокоил, — шепнул мне на ухо Жора Черногорский.
— Кого? — отозвался я, витая в поднебесье.
— Так Дэна вашего, — пояснил отставной киллер, — кого же еще!
— Потом, ладно? — как во сне произнес я. — Всё потом…
В те минуты я был поглощен созерцанием: «Хвала и честь животворящему Богу, простирающему луга, как цветущий ковер, венчающему поля золотом колосьев и лазурью васильков, а души — радостью созерцания». Вся земля, эта чужая, и другие места, по которым пронеслась душа новопреставленного Юрия — раскрыла мне свои сокровища, которые возделывал, охранял и украшал своими трудами мой друг. Ему столько удалось, а мне еще столько предстоит поработать.
— А ты говорил, Дэн испугался приоткрытой форточки в преисподнюю! — произнес я мысленно.
— Сам понимаешь, даже самые грозные предупреждения со временем забываются, — сказал мой воинственный ангел. — Наверное, так устроена психика людей. Так они защищают свой покой, так сбегают от своего отчаяния. Им проще уверить себя в том, что им померещилось нечто страшное, чем пойти в храм на исповедь.
— А ты не мог меня предупредить заранее? — молча проворчал я.
— Не мог! Видимо, Господь ожидал до последнего мгновения покаяния Дениса. Даже когда навел перекрестие прицела на Юру, даже когда положил палец на спусковой крючок — он колебался! Денис вполне мог остановиться! А еще, знаешь, опыт подсказывает, что твоему другу нужна именно такая смерть. Наверняка он предупреждал тебя о такой возможности.
— Да, предупреждал…
— В таком случае, смирись и не ропщи. Всё по воле Божией, всё как надо.
— Как он там? Ты же его видишь!
— Прекрасно! За него не беспокойся. Но и молиться о упокоении не забывай.
Выполняя прижизненный приказ боевого командира, отсчитал сорок дней и засобирался домой. Решили перевезти останки Юрия с чужбины на родину для захоронения на погосте лесного монастыря отца Иосифа.
Как-то друг сказал с грустной улыбкой:
— Помнишь, слова государя Николая Александровича: «Если нужна жертва, пусть этой жертвой буду я!» Великая жертва, высокая честь! Хотел бы и я вот так…
С середины восьмидесятых до конца десятых годов потери русского населения составили цифру, вполне сопоставимую с потерями в гражданской войне. Мне приходилось не раз провожать близких в последний путь. Одевал искореженные в пожаре тела в морге, собирал фрагменты тел, чтобы хоть что-то положить в гроб, часами разглядывал лица умерших, чтобы разгадать их последнюю тайну — куда они уходят душой: под землю или в Небеса. А прощание с Юрой вылилось в праздник торжества христианства — его улыбка, застывшая на просветлевшем лице, реяла передо мной все сорок дней молитвы, сорок дней прощания, вернее, временного расставания. Я люблю тебя, друг, ты там в Царстве света займи местечко для меня, хотя бы на самом краю рая, чтобы мне хотя бы краешком глаза, из-за голов жителей небесных — видеть лик Господа моего, чувствуя тепло плеча моего боевого товарища.
Келья на вершине горы, у подножия которой расстрелян мой офицер Георгий.
Затеяли мы ее с Юрой, положили начало строительству, а завершили монахи из лесного монастыря о.Иосифа. Вернулись из Святой земли Палыч с Сергеем, заняли один из домов в Моей деревне. Оба стали тихими, зная историю их жизни, можно предположить, что они «пришибленные», но отец Иосиф радуется их таковому преображению и благословляет на новую жизнь, в новом благодатном месте. Я только спросил у Сергея, удалось ли ему повторное восхождение на Гору блаженств. Он едва заметно кивнул и прошептал: «И мне, и Палычу. Только сейчас я понял, что вы с Юрой чувствовали. Это рай земной. Это любовь божественная. Теперь и помирать не страшно!»
Из щелевидного окна кельи открывается просторный вид: зеленое море тайги до горизонта, вершина соседней горы в голубоватой дымке, золотой крест над храмом и много, много чистого синего неба. Здесь, в тишине, здесь, где так близки небеса, — хорошо молиться о близких, удобно поминать покойников, умолять Господа о воцарении Царя грядущего.
Сюда привезла близнецов Ирина, сюда же приехала Сирена с округлившимся животом. Сюда же вернулась из города Парижа Марина-Маришка с черной кожаной курткой мужа, которую она несла как знамя, — и эта бывшая хулиганка призналась в непраздности, похвастав свободными платьями для будущих мам. Узнав от меня, что Сергей на Святой земле написал книгу, она обрадовалась, но, выслушав предположение о большой работе, предстоящей Сергею по изданию книги, сначала расстроилась, а потом смиренно кивнула: «Ну, чтож, да будет так!». Первое время они ходили по Моей деревне, открыв рот, всему удивляясь, даже Сирена, которая участвовала в начале строительных работ. А я подумал с потаенной улыбкой: ну вот, теперь эти трое мамаш совсем растворятся в детях, в хозяйстве и в любви, которой нам всем еще предстоит учиться.
Оставив Машу дома, мы с Сашей забирались по крутой лестнице в келью на вершине горы.
— Почему без Машки? — спросил сын, пыхтя рядом со мной.
— Мужчинам на войне прилично оставлять женщин в тылу, — пояснил я тактический ход.
— Мы разве на войне? А где же самолеты, танки, пулеметы?
— Наша с тобой война, сынок, гораздо сложней. Наш враг невидим, но тем не менее коварен и жесток. А цена победы или поражения — миллионы спасенных душ. Даже если тела при этом будут поражены. Но потому и непобедим русский солдат, что он готов жертвовать собой за Веру, Царя и Отечество. А Маша и мама Ира — они, как верные боевые подруги, встретят нас после боя дома, в тепле, чистоте, сытости и уюте. Вот такой расклад, сын мой и боевой товарищ. — Я открыл дверь кельи. — Входи, обживай блиндаж.
— Что мы тут будем делать? — спросил сын, оглядываясь.
— Помолчим, — сказал я, возжигая лампаду, — подышим воздухом святости, потом приступим к боевой молитве.
Когда мы с Сашей спустились с вершины на землю и неспеша стали возвращаться домой, сын на секунду остановился, поднял на меня синие материнские глаза и спросил:
— А Георгий — он кто?
— Русский офицер, которого вон там, — я показал на подножие скалы, — расстреляли. А почему спросил?
— Да так… — попробовал мальчик уклониться от вопроса, но передумал и произнес: — Он ко мне приходил, там, в келье. Обещал помогать.
— Если офицер обещал, значит поможет.
Сказочка на ночь
Сказка — ложь,
да в ней намек,
Добрым молодцам
урок.
А.С.Пушкин
— Папочка! — воскликнула Машка.
— Пап! — вторил Сашка мальчишеским баском.
— Ты обещал нам сказочку, — предположила дочка.
— Расскажешь сказку? — глядя исподлобья, сурово спросил сын.
— Дети мои, если отец что-то обещает, обязательно исполняет, — наставительно сообщаю подрастающему поколению. — Если не исполнил обещанного, значит не обещал. Верно? — глянул на дочь.
— Да, — созналась дочь, опустив глазки. — Но ты ведь расскажешь?
— Да, если ляжете в постельки и превратитесь в слух.
— Это как в большое ухо? Ну, из мультика.
— Примерно.
Близнецы суетливо заняли штатные места для сна и затихли, глядя из-за края одеяла на меня. В такие минуты абсолютного подчинения отцовской воле, мне они очень нравились. Я прочитал «Отче наш», «Ангеле хранителю мой», перекрестил малышей, все время придумывая начало сказки. Наконец, перекрестился сам, сел на детский стульчик и начал свой рассказ.
— В некотором царстве, в одном очень правильном государстве, однажды в пятницу вечером произошло событие, о котором никто не узнал. Ну казалось, что такого, водитель самосвала не доехал до специальной свалки химический отходов и свалил груз у кромки леса, рядом с муравейником. Дело в том, что водитель очень спешил домой, к телевизору: с минуты на минуту должен начаться футбольный матч, а он был болельщиком, от слова «больной».
Муравей издалека почуял опасность, исходящую от сваленной кучи химических отходов, увидел скрюченных соседей по муравейнику. Повернул обратно и побежал, что есть сил в самую чащу леса. Заночевал муравей под старой корягой, всю ночь трясясь от страха. А на утро выглянул из-под коряги, добежал до лужицы, оставшейся от дождя, напился воды, глянул на своё отражение — и удивился! На него из зеркальной поверхности воды глянул, не испуганный муравьишка, а огромный великан!
Что вы хотите, муравей в школу не ходил и книг не читал. Откуда ему было знать, что некоторые химические вещества могут изменять сознание. Видимо, груз, который свалил на окраину леса, помутил сознание муравья, он потерял способность к трезвой оценке своей внешности и возможностей. Короче говоря, муравей возомнил себя великаном и пошел в глубину леса искать какого-нибудь силача, чтобы его победить и подчинить себе всех жителей леса. Муравей бежал по тропинке и мечтал о том, как всё живое станет выполнять его прихоти, приносить ему самую вкусную еду: сахар, мёд, варенье, печенье.
Муравей так увлекся мечтаниями, что едва успел увернуться из-под лапы лисы. Рыжая плутовка бежала в ближайшую деревню, чтобы подловить зазевавшуюся курочку, схватить ее и утащить в лес. Муравей разозлился, взбежал по лисьему хвосту, добрался до черного носа и что было сил впился в него.
— Ой-ой-ой! — завопила лиса, пытаясь лапой сбросить нахального муравья. Но тот ловко увернулся и еще сильней вцепился в лисий нос. Да еще впрыснул муравьиной кислоты в ранку. Нос у лисы распух, и она стала видеть не дальше своего носа.
В лесу никто не смел так агрессивно относиться к лисе, даже серый волк ее уважал за хитрость и деловую хватку. А тут такое событие! Ну что же, подумала лиса, если этот малец с мощными ядовитыми челюстями так себя ведет, значит, имеет на то право. Лиса даже оглянулась и поводила распухшим носом, в поисках какого-нибудь неизвестного ей зверя, который мог стоять за спиной муравья. Лиса иногда под покровом ночи забиралась в деревню и, спрятавшись в кустах, подглядывала в окно на телевизор. Больше всего ее интересовали фильмы про бандитов, ведь и ей хотелось стать такой сильной, чтобы все боялись и подчинялись ее воле. А в кино всегда имелся такой крутой супермен, который держал всех в страхе.
И тут лиса поняла, что с этим муравьем и ей выпал шанс — ведь если ему служить, то она может такого страху нагнать на лесных зверушек. И она сказала:
— Хорошо, мой господин, ты меня победил. Я готова тебе помогать, только и ты, пожалуйста, меня не забудь, когда будем делить добычу. А теперь пойдем, я тебя хищникам представлю.
Тот же фокус, что и с лисой, муравей проделал с волком, медведем и кабаном. Все они убегали от муравья с жалобным воем, с распухшими носами, а лиса торжествовала, отбирая у зверья их добычу, нахваливая своего босса, лесного супермена.
И все бы так и продолжалось, если бы в один солнечный денек в лес не пошли по грибы и ягоды мальчик с девочкой. Как и положено с древних времен, лесные звери, увидев людей, прятались в чаще леса, под густыми еловыми ветвями, в глубоких оврагах, кто умел забираться на деревья — на самую верхушку — всё для того, чтобы не попасться на глаза человеку.
Но в этот раз произошло нечто невообразимое! Лиса спряталась в густом орешнике, а навстречу мальчику вышел обнаглевший муравей. Пока мальчик наклонялся за симпатичным подберезовиком, ставил корзину в траву, доставал нож, чтобы аккуратно срезать гриб — муравей стал забираться по ноге, по спине, чтобы по привычке укусить за нос. Но в тот миг, из-за ели выбежала девочка. В одной руке она держала букет ромашек, в другой — крепенький боровичок.
— Смотри, Саша, какой белый гриб я нашла! — сказала девочка. — Ой, остановись на секунду, у тебя на спине такой большой муравей!
Девочка букетом ромашек смахнула муравья в траву. Пока он летел, кричал на весь лес: «Да как вы смеете! Ничтожества! Я великий муравей, хозяин леса и всей земли!»
Мальчик повернулся к девочке, похвалил ее за находку:
— А знаешь, Маша, мама говорила, что из белых грибов можно приготовить вкусный суп. Давай вернемся туда, где ты его нашла, и рядышком поищем. Может еще парочку найдем. Вот мама обрадуется!
…И наступил пяткой на муравья. Крик на весь лес, которого дети так и не услышали, затих. Так закончилась власть страшного Великого муравья. Туда, где только что ступила пятка мальчика, слетел с ветки березы воробышек, клюнул, подцепил в клюв крошечную добычу, вспорхнул и понес в гнездо кормить птенцов. Звериное население леса, вздохнуло с облегчением, благодарно провожая человеческих детей, робко выглядывая из своих укрытий. А Саша с Машей собирали грибы, с каждым шагом приближаясь к полянке, где сидел их папа, сочиняя новую сказку на ночь, про цветы, грибы, лесных жителей и Великого муравья, от тирании которого мальчик с девочкой освободили зверушек.
На утро за столом близнецы пошушукались, потом замолкли, когда я вошел в столовую, после молитвы сначала заговорил Сашка.
— Папа, а ведь ты про лес не зря рассказал. Верно?
— Да, верно, — кивнул я, наливая себе первую чашку кофе.
— А я догадалась, — вставила свою фразу Машка. — Муравей — это плохой дядя. Так?
— Так, — снова кивнул я, раскладывая овсянку по тарелкам.
— Паап, — пропел Сашка задумчиво. — Может тогда скажешь, при чем тут мы с Машкой?
— Обязательно, дети мои! — Сказал я, внимательно оглядывая детей. — После того, как сам узнаю. А сейчас, ребятки, быстро в машину и на работу… То есть в детсад.
Следующий разговор с сыном произошел, когда я встретил его после спецшколы. Манечка уехала с мамой к бабушке, по этой причине мы с Сашкой оказались в сугубо мужской компании. Он внимательно посмотрел на меня долгим, совершенно недетским взглядом, выдержал паузу в двенадцать тактов и только после такой подготовки приступил к допросу.
— У меня не выходит из головы твоя сказочка про муравья.
— На то и был расчет, сынуля, — улыбнулся я, чтобы разрядить напряженную обстановку, казалось заискрившуюся внутри автомобиля. — Сколько тебя сейчас? Двенадцать? Значит целых семь лет созревал для продолжения этого разговора. Молодец, хорошая выдержка.
— За это время мне удалось кое-что понять, — голосом Кашпировского вещал сын.
— В таком случае, расскажи старику, что же ты понял?
— Пап, ты не шути, пожалуйста. Это серьезно!
— Знаешь, сынок, если не шутить, то при нашей работе можно и умом тронуться. Помнишь, афоризм Станислава Ежи Леца: «Юмор восстанавливает то, что разрушил пафос». Практика показывает, те кто утерял способность улыбнуться в напряженный момент, попросту сходят с ума. Так что учись сбрасывать пар.
— Можно я продолжу? — упрямо проскрипел сын.
— Валяй! — усмехнулся я.
— Отец! — воскликнул Сашка впервые так сурово назвав папулю. — Скажи только, кто он? Ну, тот самый муравей…
— В смысле, кого мочить? — язвительно спросил суровый отец. — Когда и из какого оружия?
— Ну да, типа того… — смешался отрок.
— Ты что же думаешь, что главного муравья в лесу вот так просто — пяткой придавил и всё? Слушай, ты уже не тот Сашка, что верит в сказочки. Та история — на вырост. Правильно, чтобы думал, разбирался, учился. А «муравья» тебе и всем нам еще укажут. Главное, быть готовым выполнить любое поручение свыше, «не жалея живота своего»!
— А если серьезно? — несколько смягчился мальчик.
— Серьёзно, говоришь… И до дома это не подождёт, говоришь…
— Не-а, лучше прямо сейчас, а то дома помешают, ну там ужин, уроки и все такое…
— Ладно, — согласился я. Вырулил машину на обочину, поставил на тормоз. — Представь себе огромного паука в центре обширной паутины.
— Так, на этом уровне не муравей, а уже паук? Кажется, я расту! — наконец улыбнулся мой строгий Сашка.
— Ага, растешь, скоро макушкой потолок пробьешь. Вернемся к нашим паразитам. Там, в паутине, уже завязли сотни жертв паука. Это на просто мушки-блошки, а министры, генералы, банкиры и прочие власть имущие. И все повязаны пауком — насмерть! Стоит кому-нибудь рыпнуться, на его шее затягивается нить паутины — и всё! Недолго мучился министр в паучьих опытных руках. Это, сам понимаешь, фигурально!.. Но между тем, есть и паук, и жертвы — всё это есть. А теперь самое главное! Что держит жертв в паутине? Правильно — жадность, властолюбие и страх. А что является нашим оружием?
— Что-то противоположное?
— Верно! Наша сила — не наша, она от Господа Бога. А наше дело — хранить веру, противостоять соблазнам и ждать указания свыше.
— И всё? — разочарованно протянул сын. — И всего-то? Как-то несерьезно!
— О, не скажи, — успокоил я сына. — Знаешь, сколько миллионов людей соблазнил этот паук! А знаешь, как умело и вместе с тем вероломно действует хозяин паутины! Не успеешь оглянуться, а ты уже взял сумму в конверте, влюбился в красавицу, засмотрелся на шикарный особняк, лимузин, личный самолет — и паук тут как тут: чего изволите Сашка с Машкой? Всё получите, всё будет в лучшем виде, только отойди от Христа, пройди путем апостола Иуды. Сегодня же получишь свои тридцать сребренников. Слышишь — сегодня всё будет, о чем мечтаешь! А завтра — не думай о нём, кто знает, что будет завтра, а сегодня — вот оно, сейчас. Бери авто, самолет, особняк, красавицу, бриллианты, миллионы валютой — бери, не жалко для хорошего человека, для хорошего дела повышения благосостояние трудящих.
— А тогда какая у меня роль? — спросил сын.
— Повторяю для не особо понятливых: ты храни веру, берегись от обольщений, учись благодатной молитве и жди указания свыше. Всё! Твой ангел укажет, куда идти, кого защищать, за кого жизнь положить, чтобы попасть не в ад (или в паучью сеть), но в Царствие небесное. Ты пойми, Александр, нас верующих мало, но мы как евангельская соль осоляем и сохраняем жизнь, мы как евангельская закваска, которая поднимает огромное тесто. Но на первых порах и апостолов было все-то двенадцать, а «заквасили» они миллионы людей. А нам с тобой еще предстоит Царю земному послужить — вот когда придется потрудиться на славу!
— Царю служить, конечно, здорово! А как же Машка? — вдруг вспомнил он о сестре. — Как мне ее защитить. Маму? Тебя? …Когда вы старенькими сделаетесь…
— Ну, во-первых, как говорил старик из Одессы: «Не дождетесь!», а во-вторых — да вот так, примерно, как я тебе объяснил, — вздохнул я. — Скоро ты, мальчик, поймешь, какая сила тебе дана Господом. Не то, что муравьев с пауками, ты князей бесовских станешь гонять, как собачонок и давить, как клопов. Но только не сам, а с Божьей помощью. И не забывай Иисуса в возрасте до тридцати лет. Сам Сын Божий смиренно ожидал положенного законом возраста, работая в мастерской Иосифа плотником. Вот так, Творец вселенной, вдохновитель пророков колотил табуретки, ожидая наступления тридцати лет, когда можно заступить на священническое служение. Таким вот образом ковалось самое грозное оружие против сил зла — смирение! Послушание Отцу! Помнишь из Апостола: «послушлив быв даже до смерти, смерти же крестныя» (Флп. 2:8)
— Спасибо, папа! Ты
мне такое рассказал…
— …Что на семь
следующих лет хватит. Да?
— Опять смеешься?
— На этот раз не
очень. Спасибо и тебе, сын, за терпение, за желание понять. Ты молодец у меня!
Оглавление
Часть 2. Ломая молнии полет.
3
Опережающее ли моё отражение?.
3
Светская часть паломничества.
3
Рег.№ 0331042 от 27 августа 2021 в 21:33
Другие произведения автора:
Нет комментариев. Ваш будет первым!
 Меню
Меню