Баклан Свекольный. главы из романа
20 февраля 2014 — Евгений Орел
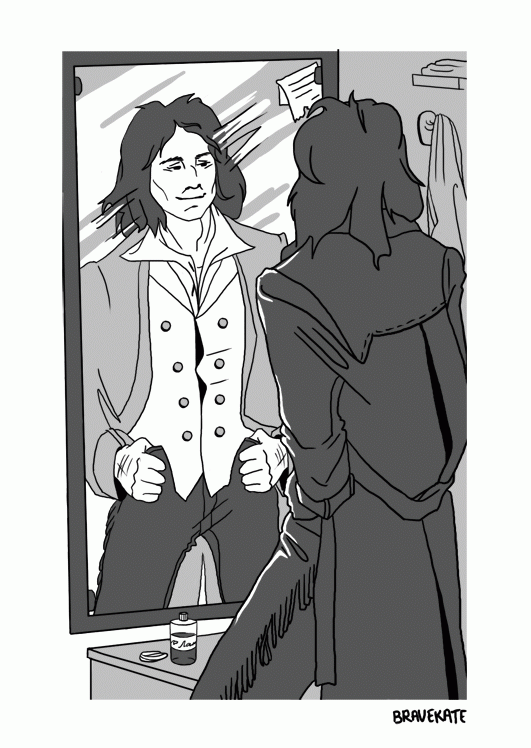
роман
Главы 1-6 из 28
Глава 1
День один похож на другой
Понедельник, 4 октября 1993 г.
Время – 07:00.
Людской муравейник. Банальная метафора. А городская суета – куда уж банальней.
Один день похож на другой, серость будней склоняет к бездонной тоске.
Народ погружён в депрессивную спячку.
Год на дворе 93-й. Страна воет под безжалостным катком тотального обнищания.
Ещё страшнее давит на психику гиперинфляция, когда зарплата мельчает быстрее,
чем за неё распишешься. До новой обещанной валюты бог знает сколько – может,
и целая вечность. А пост-совковый карбованец так быстро теряет в весе, что
«брежневский застой» кажется эпохой процветания.
Ничего не происходит. Ничего! Не то чтобы никаких событий, да только не происходят
они, а случаются. В 90-м хоть забастовками развлекали, особенно студенты,
голодавшие за отставку Премьера. И таки взяли мужика на измор: как миленький ушёл!
Или его ушли, какая разница? А разговоров-то сколько! По телеку на прайм-тайм
без конца крутили ролик с парламентским спикером, вышедшим без охраны(?!) пообщаться
с лидером голодавших, измученным таким, глаза будто закатились в череп.
На голове непременная повязка с надписью белым по чёрному: «Я голодаю!».
Тогда ещё протестовали не за деньги, а за совесть, рискуя подвергнуться как голодному
шоку, так и холодному водомёту. Лидер студенчества звал спикера не по имени-отчеству,
как полагалось, а просто – пан Леонид. Странное дело: «пан» не возражал. Казалось,
он с удовольствием принял новый стиль, именуя визави паном Олесем.
А интересно-то как! Ни малейшего высокомерия одного и ни на йоту подобострастия другого!
Ну точно штатовский конгрессмен со штатовским же простолюдином. В диковинку всё,
без чинопочитания по-совковому.
Происходящему внимал Федя Бакланов, киевлянин, аспирант при одном из НИИ. Стоял он
неподалёку, стараясь попасть в телекамеры. До трепета души поражал его воображение
этот необычный «светский диалог». Спорили собеседники мягко, без личностей,
друг друга не перебивали.
В народе зрела вера: ведь можем и мы жить и общаться по-человечески! По-западному,
то есть, как тогда говорили – по-цивилизованному.
Год спустя – московский путч, названный «опереточным», развал страны с её мультипликацией
в пятнадцать «карликов» и тлеющей надеждой на лучшее. Заразился Федя политикой.
Не как профессией. Подспудно чувствовал – грязное это дело, но судьба страны казалась
ему связанной с его судьбой. Вот и «светился» на разных митингах, даже в народный
фронт записался. Слово брал не раз, пламенем души восполняя промахи ораторства.
Думал тогда Фёдор, как многие: разбежимся по норам – и заживём слаще малины.
Да не случилось. Поначалу – эйфория, ликование на площадях и в душах. Но ничего путного
не вышло, и кайф постепенно улетучился. Только болтовня с высоких трибун.
Трёпа много, а дело валится. Народ возмущался:
- А шо ж такое?...
- Когда же?...
- Мы же…
- Шо же…
- Да мы же…
Вопросы сквозили укоризной в потоке всеобщего негодования. Да вот без толку всё.
Разномастные подонки сменяли друг друга у державного корыта. Каждому хотелось
урвать побольше да получше, притом за народный кошт. А тем временем страна катилась
в бездну, и на обломках поруганных ожиданий глубоко пустил корни
беспросветный депресняк.
После многих разочарований интерес к политике у Феди пропал не только всерьёз,
но и надолго. Да и только ли к политике? Жизнь он не проживал, а точно перекати-поле
болтался во власти ветерков повседневщины. Но жить надо. И сохранить
уникальность, собственное «эго» – непременно надо.
Об этом ранним октябрьским утром думает Фёдор Бакланов, с закрытыми глазами
нежась под верблюжьим одеялом и упорно не принимая нависший понедельник за данность.
Сквозь открытую форточку комнату навязчиво заполняет приевшийся гул утреннего города.
За окном – Оболонский проспект. Гомон и топот спешащих на работу киевлян заглатывается
урчанием авто, шорохом резины, полирующей асфальт, выкриками клаксонов на зазевавшихся
пешеходов. Да и не только клаксонов:
- Куда прёшь! (Непечатное.) Тебе что, жить надоело?! (Ещё непечатней.)
Вот уж несколько лет, как на дорогах появились иномарки. Хоть и неподъёмные по ценам
для большинства, но всё беспардонней вытесняющие скудный советский ассортимент:
Волги, Жигули, Москвичи, Запорожцы. Иномарки теснят их не только на рынке, но и на
дорожных полосах. Наследники старой школы свято чтут правило УДД – уступи дорогу
дураку. А у новых водил, на иномарках, и школы не наблюдается.
В те годы уровень хамства на проезжей части заметно подскочил именно за счёт нуворишей.
И кто же они, эти новые хозяева страны и жизни? Да уж не инженеры и не врачи, не говоря
об учителях и прочей интеллигенции. Нет, это те, кто по закону воспользовался дарованной
свободой бизнеса. И то, за что при Советах давали «срокá огромные», - купить подешевле
да продать подороже, - теперь стало мерилом положения в обществе. Ну а среди его
составляющих – непременно «тачка», да обязательно чтоб «иномарка».
Беда только, что в бизнес пробились локтями в основном те, кто не гнушался никакими
способами добывания денег, не блистал манерами, да и выражений не выбирал. Наглые,
циничные, бесцеремонные – они-то и заполонили дороги крутыми «тачками». А ведут себя
как в бизнесе, так и за баранкой. Потому и растёт процент хамства на дорогах
пропорционально доле иномарок.
Как же в облом вставать под треск сумасшедшего будильника! Чёртовы будни! Утром новой
недели особенно не хочется покидать уютную постельку.
Да и куда идти? Чего надо от жизни-то?
Фёдор вспоминает, что в воскресенье, десятого, у него юбилей. Веха серьёзная, тридцатник
всё-таки. Впору и задуматься, да вот думать особенно и не о чём. Ну, к чему-то стремился,
чего-то с грехом пополам достиг. Но кому об этом расскажешь? Можно, конечно, и выбрать
слушателя или его «жилетку», да только кому всё это надо? Может, кто и послушает,
но так, из лицемерной вежливости. А чтобы по-настоящему…
Чтобы выслушать душой… Э-эх…
Фёдор ловит себя на том, что рассказать ему не только нечего, но и некому. Друзей не нажил.
Не сложилось почему-то. Или у него завышенная самооценка, или у людей к Фёдору
чрезмерные запросы и ожидания. На работе, конечно, шампанское с тортиком – это
само собой. Выслушает пару поздравлений сквозь зубы да с кукишем в кармане. А что ещё?
Ну отец позвонит, если протрезвеет. Хоть и живут в одном городе, да не видятся почти.
Ну мама из Хайфы телеграфирует. Уж два года как развелась и умчала «на юг».
Да что уж там…
На ум приходит вчерашнее свидание c Ольгой, закончившееся банальной пьянкой и групповым
сексом. С кем пил и прочее, уж не припомнить.
Фёдора мучит загадка, куда внезапно запропастилась Выдра, то есть Ольга. Так за глаза её
прозвали из-за фамилии – Выдрина. Из головы не выходят её шикарные размеры и контуры.
Да разве только из головы?… Ну то вчера. А нынче – что день грядущий заготовил?
С тягостным сиплым стоном Федя привстаёт.
Э-эх… потягу-у-уси-и-и…
К месту приходится поллитровая банка с водой из-под крана, с вечера поставленная на табуретку
рядом с кроватью. Несколько алчных плямкающих глотков – и стекляшка пуста. Першение
в горле с глубоким кашлем не дают водрузить сосуд обратно. Рука не удерживает банку и
та скатывается с табурета, глухим ударом приветствуя истёртый временем паркет.
Фёдор продирает глаза. Всё-таки вставать надо. В тяжёлой, как стальная чушка, голове
больно отдаются хмельные колики. Сбитый с нужной фазы вестибулярный аппарат норовит
вернуть голову на подушку. Но нет, нельзя, иначе снова объяснительная, китайское
предупреждение шефа и прочие мерзости.
Никак не может босыми ногами нащупать тапки. А, вот они! Один у ножки кровати, другой
чего-то забыл под тумбочкой. Сразу постель не застилает. Сказывается армейская привычка:
дать простыням выпустить накопившиеся за ночь телесные испарения.
Спать Федя любит абсолютно голым. Так удобней: и тело дышит, и дискомфорта ни малейшего.
Нагишом, в одних тапках, подходит к трельяжу у противоположной стены. Радует глаз отражение
в центральном зеркале. Боковыми створками Фёдор подбирает наилучшие ракурсы. Вращая
корпусом, скользит взглядом по волнообразным перекатам рельефной мускулатуры.
«Чем не красавец, - думает, - и собой статен, и ликом не урод, а точёной фигурой кому угодно
вскружу голову, хоть Николь Кидман».
«Надо бы хозяйку вызвонить» - вспоминает об Алле Петровне, сдающей ему двухкомнатную
квартиру. Самому тут жить милое дело, но дороговато, чёрт возьми.
На трюмо – древний аппарат, с дисковым набором, времён позднего Хрущева или раннего Брежнева.
Девятка заедает, а их в аккурат четыре штуки из шести в искомом номере, из-за чего Фёдор
старается не звонить хозяйке с домашнего. На покупку нового телефона он её так и не уговорил.
А что ей-то теперь? Выдала дочку единственную, Карину, за навороченного бандитика и следом
за ней перебралась в троещинскую[1] новостройку. Довольна уж тем, что зятеву харю видит редко.
Тот всё мотается как не на разборки, так по торговым точкам, принадлежащим ему на паях
с такими же нуворишами, как он сам.
Тёща в дела молодых не вникает. С дочкой ладит. Да и чего делить-то? Обе на птичьих правах.
Зятя, Жорку, не сегодня-завтра прищучат, вот и отправится белым лебедем в известные
апартаменты. А им с Кариной куда? Но пока тот на свободе, Алла с дочкой посоветовались и
решили оболонскую квартиру сдавать. Рудименты совести не позволяют обдирать постояльцев
до последней нитки, но и совсем уж продешевить – тоже грех: место ведь выгодное,
у ветки метро, магазинов полно.
Когда Фёдор по объявлениям искал жильё, именно эта квартира ему и приглянулась. Хоть и
обшарпанная, давно не знавшая ремонта, с допотопной мебелью, но без хозяев. Малогабаритка,
зато две комнаты. Живи себе в удовольствие – да только непосильно для зарплаты младшего
научного. Когда выпадает подработка, переводы с английского, кое-как протянуть можно.
А иначе хоть в бомжатник записывайся.
Хозяйка давно предлагала Феде кого-нибудь в компанию, чтоб волком-одиночкой не выть, да и
платить пополам всё-таки легче. Но свобода и комфорт куда приятней, и Фёдор изо всех сил
тянулся, покуда кошелёк позволял. Да уж месяц-другой живёт на зарплату и только.
Невмоготу, однако, вот и сдался хозяйке на милость.
С того конца провода тоскливо отзываются нудные гудки. «Неужели ещё спит? – думает Фёдор. –
Она ведь жаворонок». Алла Петровна как-то привела довод из народной мудрости: кто рано
встаёт, тому бог даёт. Фёдору пришла на ум английская поговорка «ранней пташке достаётся
червяк[2]». Вслух же он заметил: «Значит, первый червяк ваш». «Чего?» - подозрительно
прищурилась Алла Петровна, не уловив аллегории. Фёдор понял, что метнул бисер, и тему
довелось быстренько закрыть: «Нет-нет, ничего, простите, это я о своём».
Щелчок аппарата – и не по годам звонкое протяжно-любопытное «аллё-о-о?».
- Кхе-кхе… Доброе утро, Алла Петровна, - здоровается Фёдор, по ходу прочищая горло.
- Федя? А что случилось? - Хозяйку настораживает ранний звонок, и «доброе утро»
остаётся без ответа.
- Да всё в порядке, - он понимает, что встревожил хозяйку, и жалеет, что не позвонил
позже, из института, - я вот чего: вы говорили, что можете подселить кого-нибудь…
Алла молчит, а Федя использует паузу, чтобы собраться с духом и выдавить из себя ненавистное…
- …ну так я согласен.
- А что так? – иронизирует Алла Петровна. - Ты же упирался, не хотел. Свобода ему, видишь ли...
Федя кривится от досады то ли на себя, то ли на квартирную хозяйку.
- Ну да ладно, я понимаю, - Алла сама же пресекает неуместное любопытство, и Фёдор избегает
ответов на деликатные вопросы.
- Я понимаю, - повторяет она, - у меня как раз есть один, вчера позвонил, из Луганска парень.
Думаю, вы с ним поладите. Интеллигентный такой, вежливый, не пьёт, не курит… матом не ругается…
Ему показалось, что от слов о мате повеяло тягостной грустью. Может, Алле вспомнился
быдловатый зять, не утруждающий себя подбором выражений?
- Стихи сочиняет, - зачем-то бодро добавила, скорее, не как графу досье, а повод убедить
постояльца, что его вполне устроит именно такой напарник. А то ещё сбежит Федька,
если, не дай бог, чего не так, да и потеряет Алла исправного клиента.
- А когда его ждать? – нетерпеливо допытывается Фёдор.
- Мы с ним вечером подъедем. Ты во сколько дома?
- Около семи, как всегда.
- Вот и ладненько, жди гостей.
- Спасибо, Алла Петровна. До вечера.
Федя радостно швыряет трубку на рычаг и даже подпрыгивает, роняя с ноги тапок: «Йессс!!!»
Прохладный утренний душ приводит мировосприятие в нужный тонус, и остатков хмеля
почти как не бывало. Бритьё – особый пункт, времени занимает больше обычного: жёсткая
щетина при нежной коже требует особой тщательности, иначе – пол-лица в порезах.
Набросив лёгкий банный халат и обувшись в те же тапки, направляется на кухню. А там
сюрприз: посреди стола – блюдце с шоколадными конфетами. Фёдор пожимает
плечами, качая головой.
- Карина. Кто же ещё. Ох и настырная девка! – злобно, сцепив зубы вспоминает он хозяйскую
дочку. - Приставучая, как смола!
Его лицо приобретает мрачную гримасу от недоброго предчувствия. Он не забывает об
угрозах Карины, хотя и гонит мысль об их серьёзности. За несколько свиданий Фёдор
успел понять и узнать эту странную и по-своему интересную молодую особу, хоть и
не мог сказать, что она в его вкусе.
Карину, по жизни тихоню, постоянно окружали вниманием всякие хлюпики-ботаны. Она
рассказывала Фёдору, как один такой поклонник провожал её домой, а навстречу –
здоровенная собака. Завидев опасность, горе-ухажёр побежал прочь, оставив даму на
произвол «друга человека». Собаки воспринимают бегство как слабость – вот овчарочка
и бросилась вдогонку за трусом, не обратив на Карину ни капли внимания. Догнала
беглеца. Покусать не покусала, зато штаны несчастного кавалера превратились
в лохмотья.
Карина страдала душой. Мужчины, представлявшие для неё интерес, оставались безучастными.
Подойти первой она не могла – воспитание не позволяло. А с такими жизненными
установками – поди, сыщи вторую половинку, так чтоб и по душе, и по жизни
чувствовать себя комфортно.
Когда она встретила Жору, сильного и мужественного, да к тому же втюрившегося в неё
по самое низззя… отдалась ему без колебаний. Позже разочаровалась. Жора очень редко
бывает дома. Она уж и позабыла, когда в последний раз он оказывал ей простейшие
знаки внимания. Появляется среди ночи, когда Карина давно в постели. Едва раздевшись
и не заходя в душ, берёт её по-быстрому и грубо. Получив то, что хотел, тут же на
боковую. Она и ощутить ничего не успевает. Утром, пока все спят, Жора набивает
желудок тем, что только найдёт в холодильнике, и вновь на неделю-другую
срывается по делам.
И тут судьба подкинула им квартиранта Федю Бакланова. Оказалось, Карина знала его
ещё по школе: училась в параллельном классе. Тайно любила его, но за десять лет учёбы
Фёдор не то что не замечал Карину, а даже, как выяснилось, её не помнил. Она не сразу
рассказала Фёдору, что знает его с детства. Её мама тоже не припоминала Федю. Алла
Петровна вообще мало кого знала даже из Карининого класса, что уж говорить
о параллельном.
Второе появление Фёдора в жизни Карины мало что изменило. Он, конечно, «замечал»
хозяйскую дочку, в смысле здоровался, но как предмет вожделения – в упор не видел,
к её величайшей досаде. И опять, как в школе, она страдала в одиночку, не говоря
ни слова даже близким подругам.
С Жорой перспектив нет – это Карина давно поняла. Но как быть с Федей? Ждать, пока
он проявит инициативу? А если это не произойдёт никогда?
Она ощущала потребность видеть этого безразличного хлюста, слышать его, говорить
или молчать, лишь бы находиться с ним рядом. И вскоре поняла, что себя не победить:
это – Любовь. Та самая, что в жизни появляется один раз и уходит вместе с жизнью.
После многолетних страданий, общения с трусливыми хлюпиками да неудачного замужества
Карина сделала почти мичуринский вывод: нечего ждать милостей от… мужского пола,
«взять их у него – моя задача». Так и только так! – постановила себе прежде скромная
девушка с неяркой внешностью, переросшая в едкую и циничную женщину.
Размышлять о Карине особо некогда, и Фёдор наскоро готовит завтрак. Неказистая
стряпня – омлет с «мивиной», пикули – не приносит удовольствия, но полдня
продержаться можно. На десерт, как обычно, кусочек шоколада, сигарета и кофе.
Задымлять кухню Федя не любит, предпочитая для перекуров подъезд или балкон.
Одевается быстро, время от времени поглядывая в зеркало на стене в прихожей. Сине-чёрная
рубашка в клеточку, новёхонькие джинсы «Монтана», по бокам – бахрома, густые ворсинки
длиной сантиметра четыре, сплошняком от бёдер до обшлагов. Сам нашивал!
И тем очень гордился.
Коричневый двубортный пиджак не очень к месту, ну да бог с ним. Туфли на высоких
копытоподобных каблуках при Фединой долговязости – явный мезальянс. И ничего, что
в них он смотрится вычурно, зато по-своему, не так, как все.
Довершается «прикид» чёрным длинным плащом. Всегда нараспашку. В любую погоду.
Огромное зеркало платяного шкафа во весь рост отражает лучистый образ пижонистого
молодого мужчины лет тридцати, стройного, чистоплотного, хоть и не особо следящего
за логикой гардероба.
Щёткой для волос Федя приводит в какую-то видимость порядка пышную чёрную
шевелюру, свисающую до плеч. Всё готово. Можно идти в люди.
На внутренней стороне входной двери скотчем приклеена записка-инструктаж Аллы Петровны:
1. Газ
2. Вода
3. Свет
Всё проверено и выключено. Ключи на месте, в кармашке небольшого портфеля. Щелчок
английского замка, дверь захлопнута. Надобности в лифте нет: третий этаж ведь. Прыжками
через две-три ступеньки, как в детстве, Фёдор выносится из парадного.
[1] Троещина – жилой массив на северо-востоке столицы. Название – от одноимённого
села, примыкающего к городской черте Киева.
[2] Почти дословный перевод с «early bird catches the worm» (англ.).
***
Глава 2.
Опоздание
Понедельник, 4 октября 1993 г.
Время – 08:30.
Дворовая беседка напротив подъезда день напролёт оккупирована пенсионерами. На «доброе утро»
следует нестройный благосклонный ответ.
В подъезде Фёдора знают и любят. Ведь это он минувшей весной забрался на крышу девятиэтажки,
спасая кошку. Каким-то малолетним подонкам надумалось поиздеваться над животным: подвесили
её в авоське на куске арматуры, невесть откуда взявшемся из-под козырька крыши. Ужас несчастной
кици воем отдавался в ранимых душах соседей. Никто не решался на спасательные действия. Фёдор
понимал, чем для него может закончиться авантюра, да не мог упустить шанс проявить героизм.
Желание попасть на уста дворовой публики пересиливало любые страхи.
Чтобы добраться до кошки, следовало вначале попасть на технический этаж, взобраться с него на
крышу, перелезть через ограду, после которой начинается козырёк. Уклон и без того опасный, да
ещё и металл скользкий. Съехать с козырька – раз плюнуть, но всё хорошо, что хорошо кончается:
киця спасена – соседи в восторге.
Беседка гудит от нескончаемых разговоров. Спор идёт о том, хорошо ли, что вышли из Союза,
не лучше ли было, как прежде, жить одной дружной семьёй «братских республик». Обсуждаются
события в Москве, грозящие перерасти в гражданскую войну. Народ переживает, не случилось бы
чего подобного здесь, «в этой стране» (так говорят одни, а другие поправляют первых:
«в нашей стране»).
Двое играют в шахматы. Политика давно Федю не занимает, а вот на доску с фигурами хоть краем
глаза – как не глянуть? Через пару ходов чёрные дают мат, жертвуя ладью, но досмотреть игру
не светит: Фёдор и без того уж опаздывает. Успевает только подумать, что хоть и непрофессионалы,
но к игре относятся серьёзно, чего-то там обсуждают, анализируют. И никто не корит их,
что якобы занимаются не своим делом.
Ни к селу, ни к городу вспоминается разговор с Аллой Петровной о новом квартиранте:
«Стихи сочиняет», сказала она. Фёдор тоже одно время баловался рифмами, отсылал стишата
в одну газету, другую, но отовсюду приходил отказ: стихи, мол, непрофессиональные.
Однажды ему повезло: попал на поэтический форум, даже к микрофону пробился. Первый «стиш»
публика встретила общим гулом и жиденькими аплодисментами. Кто-то свистнул, потом ещё,
и ещё… Федя не сдавался, хоть и кошки заскребли его романтическую душу.
На втором виршике вмешалась ведущая – маститая поэтесса. Даже дочитать не дала до конца.
Вышла из-за стола жюри, подавая публике знак рукой. Зал притих.
Скрипучий голос престарелой тётки заполнял поры зрительного зала и тревожным пульсом
отдавался в голове Фёдора. Морально подавленный, он выслушал безжалостный приговор:
с такими творениями дальше собственной квартиры и соваться нечего. Вдребезги разнесла
мастерица пера несовершенные строки, устаревшие формы, размазала об стенку
отглагольные рифмы.
Обида резанула Фёдора, ночами корпевшего над каждым словом. С тех пор Пегаса
оставил в покое.
По дороге к метро ход мыслей рождает причудливый вывод: как же так, мол, в шахматы
по-любительски играть можно, а стихи писать надо только профессионально. «Что-то
тут не то. Или я чего-то не догоняю», - размышляет несостоявшийся шахматист и ещё
менее состоявшийся поэт.
Увлечённый мечтами о несбывшемся прекрасном, Фёдор не вписывается в людской поток
часа пик. Раз за разом его толкают, оскорбляют.
- Чё стал, козёл?!
- Клоуном вырядился!
Он не отвечает, хотя запросто может любого хама поставить на место, да так, что тот
пойдёт искать пятый угол в круглой комнате.
Не в его правилах сердиться на людей. Они кажутся ему чем-то сродни муравьям, а город
напоминает большой муравейник. «Нельзя ведь обижаться на безмозглых насекомых. Да и
на мозглых», - улыбается он про себя. Слово «мозглый» сам же и придумал, но никому пока
вслух не говорил, надеясь использовать его в самый подходящий момент.
Полчаса давки в метро, ещё минут пятнадцать троллейбусом – и вот он, до боли
постылый институт.
Опять опоздал. Отмазка про сломанный троллейбус наверняка не сработает. Впрочем, Федя
давно уж перестал оправдываться. Молча выслушает нагоняй – и ладненько. Ну не станет же
он рассказывать о вчерашних приключениях! Чьё это собачье дело? Иной раз допоздна
зачитается Фейербахом, Ницше, Гумилёвым – не для развития, а так, чтоб цитаткой
блеснуть, если надо. Но кому это интересно?
Из-за ночных бдений он частенько не успевает до появления на вахте кого-нибудь из
администрации. Особенно не любит сталкиваться с замдиректора по хозчасти, а проще –
завхозом, Филиппом Анатольевичем. У того привычка выставлять перед опоздавшими
согнутую в локте руку с часами, тыча в неё, точно дятел, указательным пальцем другой
руки. И каждому, кто пересекает проходную после девяти, противным тенорком
декламируется двустишье, самим же завхозом и придуманное:
Вы за опоздание
Получите взыскание!
И слово держит, гадюка! В то же утро на доске объявлений появляется список фамилий
с количеством опозданий за месяц и, конечно же, обещанные взыскания: постановка
на вид, замечание, выговор и прочее.
Сегодня на проходной ни завхоза, ни кого другого. На вахте только дежурный. Фёдор
приветствует его не как все:
- Здрав желав, та-арищ капитан!
На что следует:
- В отставке. - и тут же, с дружеским сарказмом: - Что, рядовой Бакланов,
опять опаздываем?
Фёдор уточняет:
- Гвардии рядовой!
Привычный диалог между бывшими сослуживцами. После школы Фёдору довелось отбывать
«священный долг перед Родиной» в Хабаровском Крае, в подчинении капитана Груздина,
командира мотострелковой роты. Частенько рядовой Бакланов и «товарищ капитан»
конфликтовали. Дело однажды дошло до скандала, да такого, что подключилось даже
дивизионное командование.
Через несколько лет судьба свела их под крышей института. Здесь капитан в отставке Груздин
преобразовался в «ночного директора», то есть вахтёра, Сергея Николаевича. Или просто –
Николаича. С виду он моложе прожитых лет, среднего роста, с прямой осанкой. Сказывается
военная выправка.
Бакланов и Груздин зла не помнят, всегда здороваются, в их дружеской болтовне о том о сём
армия почти не упоминается. Есть и без неё что обсуждать.
В этот раз Николаич украдкой сообщает:
- Ты, это, Федь, зайди после работы. Дело есть.
Характерным жестом, переводимым как «заложить за воротник», капитан даёт понять, что сегодня
у него не то праздник, не то траур, но главное – законный повод расслабиться. Федя не уверен,
выдержит ли он два вечера возлияний подряд, но предложение принимает. Об уговоре с Аллой
Петровной быть дома часам к семи ему не вспоминается.
От входной стеклянной двери доносится гулкий стук, как от удара тупым предметом. Петли
визжат, и дверь с таким же стуком захлопывается. Холл наполняет эхо цокота каблучков
вперемежку с частным дыханием. Мимо Бакланова и Груздина вихрем проносится та самая Выдра.
- Доброе утро, Олюшка. Что ж ты не здороваешься, красавица? – слащаво напевает Бакланов.
И дальше вполголоса:
- Многостаночница ты наша.
Запыхавшаяся Ольга, не останавливаясь, бросает на Бакланова полный ненависти взгляд. Федины
словесные выкрутасы остаются без ответа.
Скабрезной ухмылкой и самодовольным взглядом Федя провожает её до лестничных маршей.
В памяти снова всплывают подробности вчерашнего вечера. Бакланов ловит себя на мысли, что
больше всего ему интересно, с двумя ушла Ольга или с тремя, а не то, что вообще ему… изменила?
Но это не измена. Ольга не клялась ему в верности, равно и Фёдор на лояльность ей не присягал.
Ушла… Да какое там! Уйти – после немеряного количества пива с водкой – выше всяких сил.
Унесли её! Как чурку неотёсанную!
- Вот же ж выдра! – шипит Фёдор вслед убегающей «красавице-многостаночнице». Губы выдают
нарождающееся непечатное слово. Он едва сдерживается. Вроде не ревнует, а душа кипит.
- Ты зря так, Федя, - прерывает Груздин его рефлексии, - она же…
- Да я знаю, - досадливо морщится Бакланов и делает движение, будто собирается наконец-то
идти на осточертевшую работу. Останавливается, что-то вспомнив и наблюдая, как Ольга со
всех ног несётся по ступенькам на второй этаж, в приёмную шефа. Тот уж давно закрыл глаза
на опоздания секретарши Выдриной. Да и все знают о причине, поэтому Ольгу мало кто
обсуждает, а тем более осуждает.
Входную дверь корпусом открывает пёс по имени Альберт. Мотая хвостиком и радостно поскуливая,
молоденький немецкий овчар несётся к Фёдору ткнуть его мордочкой в коленку. Таким дружественным
жестом он всегда приветствует Федю и только Федю. Тот приседает и давай гладить Альберту
шёрстку, щекотать его за ушками.
Год назад по дороге на работу Бакланов нашёл брошенного щенка, мокрого, жалобно скулящего
от промозглого дождя. Малыш прятался под кустом в парке, неподалёку от института. Принёс
его Федя на вахту. Ночные директора, как называют вахтёров, с удовольствием за ним ухаживали,
Бакланов носил молочко, а порой и косточек прихватывал из гастронома. Когда проходил мимо,
всегда поглаживал, играл с ним. Через год щенок превратился в симпатичного пёсика. Отзывается
на имя Альберт, очень любит Фёдора. Наверное, догадывается, что жизнью обязан именно ему.
Наигравшись со своим благодетелем, Альберт убегает на улицу, пару раз на прощанье тявкнув.
Фёдор, махнув Капитану «пока», направляется «на галеры». Так среди молодых сотрудников зовётся
работа, за которую платят копейки, а требуют полной отдачи за рубли.
Задумчиво-неторопливо Федя преодолевает давно считанные сорок ступенек до третьего этажа.
Сквозь почти выветрившийся хмель пробиваются всё новые и новые подробности вчерашнего,
хотя цельная картинка упорно не хочет складываться.
Откуда взялось пятеро или шестеро собутыльников, Бакланов не помнит. Да и место гульбы
назвать не мог бы, сколько ни напрягайся. У кого-то на квартире, но у кого… кто хозяин…
Ольга и Фёдор накануне повздорили, и она не нашла ничего лучшего, как надратьcя до нитевидного
пульса. Последним, что смогла она сказать членораздельно, оказалось: «Я тебя ненавижу!», на что
крепко пьяный Фёдор выдал, недолго думая: «Ну и вали себе! Пацаны, кому чуву надо?
Берите. Я разрешаю».
Ему и в самом деле было до лампочки, что с ней станется и что Выдра о нём подумает. Да ей уж
и думать не осталось чем. Фёдора навязчиво интересовало: со сколькими она ушла в соседнюю
комнату – с двумя или с тремя. А если с тремя и одновременно… тут уж фантазия
разыгралась не на шутку.
«Тьфу ты, чёрт!» - Его размышления прерываются встречей с начальством.
По коридору торопливо семенит замзавотделом, Павел Иванович Маслаченко. Невысокий, не по
годам лысый и полноватый, в маленьких круглых очках «а-ля-Джон-Леннон», с широким галстуком
и в чёрном костюме-тройке, далеко не новом и местами лоснящемся от блеска.
В руках кипа документов.
Федино «здрасьте» остаётся без ответа, и тут же – предсказуемый нагоняй:
- Федя, ты опять? Мы ж договаривались! Что ты себе думаешь? У тебя же защита на носу!
- Извините, Пал Иваныч, больше не повторится.
- И в который раз я это слышу? И что это у тебя за вид? Ты же в институте, а не на танцах,
верно? А джинсы? Вот скажи, к чему эти лохмотья?
- Это бахрома, - поправляет Фёдор, длинными пальцами взъерошивая на правой штанине
смолянисто-чёрные ворсинки, будто дразнит шефа.
- И что это за причёска? Когда ты, наконец, пострижёшься, Фёдор? – не успокаивается Маслаченко,
переходя на следующий атрибут баклановской экипировки.
- Ну-у… причёска… - одним движением ладони Федя приглаживает пышную чёлку, но та
сопротивляется, и упругая копна волос тут же возвращает себе прежний вид.
- А туфли? На кой чёрт эти здоровенные каблуки? Ну, скажи, когда ты кончишь с этим
пижонством? – Маслаченко не выносит свободного стиля одежды. Будь его воля, он бы в институте
ввёл униформу. Сказывается давняя служба в органах.
- Это котурны, - невозмутимо отвечает Фёдор, приподнимая ногу и вертя ступнёй, от чего каблук
и платформа кажутся ещё более внушительными.
Замзав на секунду задумывается, щуря и без того маленькие глазки. Он не знает слова «котурны»,
да виду не подаёт, а сразу к делу:
- Ну, ладно… Э-э… вот что. Тебя шеф спрашивал. Там у директора голландцы…
- Датчане, - уточняет проходящая мимо аспирантка Лена Овчаренко. Её улыбка и «стрельба глазами»
действуют на Фёдора не хуже магнита.
- Во-во, они самые, - продолжает Маслаченко и, заметив, что Федя уже «не с ним», переходит на
сердитый шёпот, - да не пялься ты на неё! Слушай сюда! Так вот, - Маслаченко возвращается на
прежний тон, - у них переводчик заболел. А ты ж и английский знаешь, и… так и датский
тоже, правильно?
- Ну да.
- Вот и хорошо, как раз к месту.
- Так что? Идти переводить? – радуется Федя, нетерпеливо ждущий возможности засветиться
перед иностранцами.
- Да нет, уже не надо. Там Вика из «внешних», хотя толку с неё... – с кислой гримасой Павел Иванович
машет рукой при упоминании «блатной» сотрудницы отдела внешних связей.
- Ну так я свободен? – равнодушно спрашивает Федя.
- Не свободен, а иди, работай! «Свободен», видите ли, - ворчливо передразнивает Маслаченко.
- Так я если вдруг нужно… - начинает было Фёдор, но замзав его перебивает:
- И давай вот что: специально возле датчан не крутись. Нечего тебе там делать. Смотри мне,
Фёдор, а то я знаю тебя! – и уносится дальше по курсу. Не оборачиваясь, добавляет на ходу:
- Но будь на подхвате, если что!
«Если что?» - думает Федя, а вслух неохотно:
- Ладно.
На том и расходятся.
Феде порядком насточертело «быть на подхвате». А как иначе? Когда Создатель раздавал
усидчивость и трудолюбие, Феде не хватило, но способности кой-какие достались. В школе
не усердствовал, хотя мог бы прилично учиться, да вот из-за патологической лени
перебивался с тройки на четвёрку.
Для поступления в университет знаний не хватило, и первый же вступительный Федя провалил,
а как только стукнуло восемнадцать, упекли его в солдаты. Студентом стал со второй
попытки, после армии, да и то «на бреющем полёте»: в списке зачисленных его фамилия
стояла первой с конца. Чуть не бросил посреди второго курса. Декан уговорил не дёргаться,
пообещав повлиять на математичку и политэконома, чтоб те ему хотя бы
«трояки» натянули.
Получил-таки «верхнее» образование. В университете надолго запомнили странного студента,
не блиставшего знаниями, но способного поставить в тупик любого преподавателя. И всё
благодаря неуёмному стремлению выудить нечто этакое, никому не известное, ошарашить
публику и готовить новый сюрприз.
Когда устраивался на работу в НИИ, в графе личного листка, где указывается партийность,
написал «агностик». Кадровичка спросила: «Это что, партия такая?» Федя пояснил, что
в агностицизме состоит его взгляд на мир. На уточнение, не атеист ли он, с удовольствием
пояснил разницу: «Атеист – это тот же верующий, только убеждённый, что бога нет.
Агностик же не принимает на веру ни существование бога, ни его отсутствие, и даже
отрицает возможность получения ответа на вопрос – есть ли бог».
В отделе кадров – будничное движение: то и дело входят-выходят сотрудники. Одним надо
справку, кто-то несёт заявление на отпуск, а кому-то просто хочется потрепаться от нечего
делать. Каждому кадровичка делала знак – мол, садитесь и слушайте: тут интересно. Все
пришедшие занимали стулья, какие только были, а за их нехваткой стояли, задами
взгромождаясь на столы.
Фёдор оживился от возможности щегольнуть эрудицией и менторским тоном повёл речь
об агностицизме. Собравшаяся публика, пожалуй, впервые в жизни слышала «доклад»
по теме. С упоением Федя доносил массам, кто такой Томас Хаксли, чем отличаются
эмпирические агностики от ортодоксальных, и прочие подробности.
Кто-то из вновь прибывших робко уточнил: «А всё-таки, это секта или партия такая? Их сейчас
много развелось». «Нет, - повторил Федя, - агностицизм – это система взглядов и отношения
к жизни, мировоззрение. Да мне и не нужны ни партии, ни секты. Я сам себе и партия,
и, если хотите, секта».
Фёдор умолк, и публика поняла, что «лекция» окончена. Вопросов больше никто не задавал.
Коллеги покидали отдел кадров, с удивлением разглядывая нового сотрудника. Довольный
произведенным эффектом, Федя вопросительно уставился на кадровичку, читавшую
его автобиографию.
Бегущий по строчкам взгляд остановился, глаза едва не выкатились из орбит прямо
на стёкла очков.
Невероятно!
Невиданно!
В документе рукой Фёдора написано, что мать его – «жлобиха с замашками аристократки,
удравшая в Израиль», а отец – «просто придурок по жизни, да к тому же пьянь безнадёжная».
Инструктор отдела кадров давай увещевать Фёдора, что, мол, нельзя так о родителях,
на что он резко:
«Это родители мои, а не ваши! И это я прожил с ними восемнадцать лет, а не вы. И не вам о них
судить, а мне. Да вам просто не понять, что моя мамашка сделала всё возможное, чтобы превратить
меня в этакого жлобоподобного пай-мальчика. Но ей не удалось. Зато старик… о-о-о…
Этот чел… - Фёдор осёкся, передумав называть его человеком. - Этот негодяй оказал на меня
более деструктивное воздействие, чем все живущие вместе взятые».
Федя родился и вырос в Киеве, на Подоле. С детства ненавидел родителей, будучи уверенным,
что в его воспитании они не смыслят ни бельмеса. Всё и всегда делал наперекор, даже когда
к советам «предков» следовало прислушаться.
Когда Федя ступил в третий десяток, мать с отцом требовали, чтобы он непременно женился.
Водили в дом красоток из числа дочерей знакомых и сотрудников – и всё ему не по вкусу.
Да и не хотелось в таком раннем возрасте расставаться с холостяцкой свободой.
А ещё родители доставали тем, что по ночам Федя жжёт много электричества. Он любил
зачитываться «до утренних дворников», как говорил его отец.
Плюнул Бакланов на всё и ещё в студенческую бытность ударился в кочевье по съёмным
квартирам, хоть и доводилось по ночам разгружать вагоны, чтобы оплачивать независимость.
Даже когда мама развелась с отцом и подалась на Землю Обетованную к сестриной семье,
он так и не вернулся в родительский дом.
После долгих препирательств отдел кадров принял автобиографию Фёдора в том виде,
в каком он и настаивал.
Поработав в качестве вспомогательного персонала, Федя решил, что пора пробиваться повыше.
Для начала надо поступить в аспирантуру. Карьерный рост в любом НИИ невозможен
без учёной степени хотя бы кандидата наук. Бакланов любил повторять народную
поговорку - «учёным можешь ты не быть, но кандидатом стать обязан».
В аспирантуру Федя попал только благодаря недобору на его специальность. Его и брать-то
не хотели: парню звёзды с неба в руки не шли, реферат написан средненько, на вступительных
едва набрал «четвёрки». Кроме английского. Заворожил он комиссию так называемым
«Скаузом», ливерпульским диалектом, невесть откуда взятым.
Конечно, в науке одним английским далеко не продвинешься – надо же и в деле что-то
соображать. Да вот не складывалось, а виной всему – лень ленская. Бывало, ухватится Фёдор
за мелкую проблему, нацарапает статейку, а глубже копнуть – не по Сеньке шапка.
В смысле не по Федьке. Так до сих пор и перебивается по мелочам. Диссертацию писал
с натуги, в сроки не уложился и давно к ней охладел.
После столкновения с Маслаченко Федя снова приходит к запоздалому выводу, что диссер
надо закончить и поскорее. И надо срочно увидеться с Гуру, как Бакланов про себя называет
Виктора Ефимовича Приходько, научного руководителя по диссертации. Гуру едва ли не
единственный на весь институт, кто до сих пор верит, что у Фёдора большой потенциал,
и он должен, просто обязан, защититься, хоть и отстал по срокам.
На другие мысли времени нет: Бакланов наконец доходит до кабинета отдела цен. Взявшись
за дверную ручку, делает паузу. Глубокий вдох – и сдержанный рывок.
- Доброе утро! – бодрое приветствие вкупе с натянутой улыбкой остаётся почти без внимания.
Фёдора не удивляет безучастность к его персоне. Торопливо скидывает плащ и, найдя в шкафу
свободные плечики, там же его и располагает. Расстегнув обе пуговицы пиджака, усаживается
за стол, с ближнего края, рядом с входной дверью.
Комната маленькая. Столов целых шесть, расставлены попарно, в три ряда, так что в созданных
проходах двум человекам разминуться можно только в профиль и впритык. Места едва хватает
для сотрудников, гардероба и двух книжных шкафов, упакованных справочниками, пособиями.
Отдельные полки чуть не ломятся от папок, так туго набитых документами, что тесёмки
вот-вот готовы лопнуть.
В отделе с Фёдором пятеро коллег: трое пожилых мужчин, одна женщина ещё более почтенного
возраста, и девушка, хоть и заметно моложе Фёдора, но уже кандидат наук. Отличница по школе,
институту и, вообще, по жизни. Стервочка. Зовут её Валя Зиновчук. Она единственная,
кто замечает появление Бакланова. Её ответ на приветствие ограничивается ухмылкой
и кокетливым подмигиванием.
Все погружены в работу, только макушки торчат. Идёт коллективная вычитка методических
рекомендаций перед отправкой в типографию.
Федя не знает, что делать и с чего начинать. Впрочем, как всегда. Безразличным взглядом окидывает
сотрудников, убеждаясь, что никому до него нет дела. Ну, может, это и к лучшему – никто
доставать не будет.
Наконец, к Бакланову подходит Зинаида Андреевна Примакова, доктор наук, три дня до пенсии.
Как научный работник, очень сильна, много знает, но ещё больше – мнит из себя учёное светило.
Раздражается, если кто в чём-то разбирается лучше, чем она.
Как личность – Примакова из тех, кто держит нос по ветру. С приходом независимости Украины
быстро приняла новые условия игры и теперь активно выступает за повсеместное использование
украинского языка. Считает, что на ТВ и радио должен быть синхронный перевод на украинский,
если выступающий говорит по-русски. Упорно старается забыть 80-е годы, когда на институтском
парткоме рассматривали дела двух сотрудников, участников национального марша. Тогда она
первая выступила с обличительной речью. О том, что её отец служил в МГБ в отделе борьбы
с национализмом, тоже предпочитает не вспоминать.
В руках у Примаковой – распечатки рекомендаций. Зинаида Андреевна предлагает Фёдору
пересмотреть уже вычитанные разделы.
- Авось, - говорит, - что-нибудь заметишь. Хотя…
- Что – хотя? – настораживается Фёдор.
- Да нет, ничего, - отмахивается Зинаида.
Они прекрасно понимают друг друга. Ни Примакова, ни кто-либо другой не надеются услышать
от Фёдора что-то путное, однако приличия ради к нему таки обращаются. Фёдора же хватает
лишь на то, чтобы повыпендриваться.
А выпендриться хотелось ему всегда. Ох, как хотелось! Герострат отдыхает. Федя любит, когда
о нём говорят. Не важно, что. Или почти не важно. Главное – не выпадать из центра внимания.
Всё началось ещё в дошкольном детстве.
***
Глава 3
До школы и после садика
1969-1981 гг.
С детсадовской поры Федя не любил, когда его обходили вниманием. Какой-то взрослый посеял в хрупкую детскую психику неоднозначную мысль: «Чтобы тебя заметили, надо делать то, чего не делает никто». Дети воспринимают многие вещи буквально. Со временем одни дорастают до понимания неоднозначных истин, а другие так и остаются детьми.
Однажды во дворе пятилетний Федя увидел новую игру – «классики». На квадраты, расчерченные мелом на асфальте, бросаешь кусочек кирпича или камушек и прыгаешь с одного квадрата на другой. Смысла Федя не понял, но в игру попросился. Не приняли. Почему? Да разве знаешь! У детей на то могут быть разные причины. Может, сочли его малолеткой. Сами-то уже в школу ходят, а тут какой-то шкет, не умеющий толком даже считать. Расстроился Федя, но виду не подал. Во дворе нашлась компашка таких же малолеток для игры в прятки, что Федю вполне устроило.
Федина мама возвращалась с работы. Сын бегом навстречу, а маму на ласку не пробило. Отругала его за то, что бегает по асфальту босиком. И не важно, что другим детям это позволено. Лето ведь!
Нагоняй – вещь неприятная, да ещё на весь двор, при всех, но Феде общее внимание очень лестно, пусть и ценой унижения.
Кто-то из мальчишек возьми да толкни его:
- Иди обувайся, пацан!
Равновесие потеряно, Федя пластом на асфальте, и хоть не ушибся до боли, но…
- А-а-а-а!!! – разревелся на весь двор.
Иной ребёнок, если сам ударится или поранится, терпит, чтобы только не заплакать. Но если кто его толкнёт или ударит, то даже от малейшего ушиба дитя подымет такой рёв, что сбегаются взрослые. И ревёт малыш не из-за боли, а чтобы его пожалели – раз, и наказали обидчика – два. В этом смысле маленький Федя из большинства не выделялся.
Вникать в подробности детской психологии недосуг. Работа, знаете ли, кухня, стирка, уборка – где уж там, не до Сухомлинского. Вот мама и давай жалеть орущее чадо и ругать якобы обидчика, в уверенности, что коль дитя плачет, значит, ему сделали больно. Физически – может быть. Но такое «сострадание» вредит детской психике, поощряя моральную слабость вкупе со стукачеством. Почему родители проявляют безразличие к душе ребёнка – за то с них и спрос.
Федина мама набросилась на пацана-забияку: «Ты что делаешь?! Я вот щас тебе уши надеру!»
Догнать мальчугана, конечно, не удалось, и оба его уха остались целыми.
Феде ясно, что отныне в глазах двора он – «маменькин сынок». Стыдобище-то какое! Ужас!
В игру его так и не приняли. Но как же это? Сами ведь играют, а Феди будто и на свете нет. Такое стерпеть – нет сил.
Дождался Федя, пока мама зайдёт в подъезд, за углом дома снял майку, трусики… и вбежал во двор теперь уж не только босиком, но и голяком.
Игра прекратилась. Короткая немая сцена сменилась детским улюлюканьем и смехом. Из окон показались и взрослые, удивлённые и шокированные. Федя как угорелый мотался туда-сюда, довольный и счастливый. Теперь-то его заметили! О нём будут говорить! И в игру возьмут непременно!
Дети в пятилетнем возрасте должны стесняться выставлять напоказ голое тело. Понимал это и Федя. Вот и решил эпатировать публику, зная, что привлечёт к себе внимание.
Развязка наступила жестокая, но предсказуемая. На шум выбежала Федина мама и давай гоняться за отпрыском по двору, вызвав новый взрыв хохота. Теперь уже и взрослые, выглядывающие из окон и находящиеся во дворе, надрывают животики.
Мама наконец-то ловит голяка, хватает под бок маленькое туловище и на ходу, при всех, давай лупить ладонью по известной точке. От обиды и боли Федя заорал так, что соседи, только что катавшиеся от хохота, бросаются в его защиту:
- Да что же вы делаете, Марта Абрамовна?!
- Да зачем же так?
- Ну, подурачился малыш…
Мать не вняла увещеваниям. Так и втащила малыша в подъезд, обхватив под бок и продолжая лупить нежное детское тельце. Даже не поинтересовалась, куда он подевал одежонку.
Еще долго из подъезда слышались плач и крики того, кто так щедро одарил дворовую публику зарядом бесплатного смеха.
Феде захотелось умереть. Только не сразу. Пускай все знают, что дни его сочтены, возятся вокруг него, плачут, утешают, мол, мы тебя спасём, Феденька, ты выживешь. Да где там! Не дождутся! Он им не дастся! Он – умрёт!!! И все придут на его похороны, будут рассказывать, какой он был хороший. Да не всё ли равно, что будут говорить? Лишь бы о нём, любимом.
В доме ещё недели две нет-нет, да и вспоминали о голом пробеге «мальчика из тринадцатой квартиры». И, странное дело, с тех пор его принимали во все игры, даже в подростковые. Бывало, трезвонит дверной звонок, и на удивлённые взгляды мамы, папы и бабушки дети наперебой сыплют вопросами:
- А Федя выйдет?
- А можно, Федя с нами погуляет?
И на строгое…
- Нет, он не может…
… потоком следуют уговоры:
- Ну пожа-а-алуйста!
- У нас такая игра интересная.
- Пустите его с нами…
Каким-то недетским чутьём Федя понял, что к перемене отношения двора следует отнестись без гонора и зазнайства. А ещё для себя заново открыл, что находиться в центре внимания очень даже интересно, хотя и бывает сопряжено с битой задницей.
В школе для Феди наступили серые дни. Учёба шла туго: лень-матушка пресловутая и непринятие того, что навязывается. Учиться хотелось, но только тому, что по душе. Иксы-игреки не нравятся – к чёрту алгебру. А вот рисование, пение, труды – самое то! Там полёт Фединой фантазии поражал и учителей, и одноклассников. Если же задание не по нутру, протестовал он всеми фибрами и нейронами.
С одноклассниками сходился нелегко, зато расходился быстро. Не принимали Федю таким, какой он есть – открытым, уязвимым, наивным. Его душеизлияния оборачивались против него самого. Больно, конечно, бывало. Но в уныние Федя не впадал. Ему хотелось уважения старших и преклонения сверстников. Он понимал, что сразить класс можно чем-то необычным, не общепринятым. Голым по школе, разумеется, не бегал: здравые рамки всё же присутствовали.
Федя открыл немало других способов работы на публику. Особенно ему нравилось выдавать что-нибудь малоизвестное и, конечно же, из-за пределов школьного курса. И не надо париться над домашним заданием, главное – умело дополнить отвечающего урок. Это же двойной выигрыш: оценка за ответ – раз, восхищение (особенно девочек) – два. Постепенно в нём проросло убеждение, что учиться надо именно так. Вот и забросил Федя учебники, а взялся за энциклопедии, справочники. Всё выуживал что-то исключительное. Такое, чтобы знал только он.
В четвёртом классе в приложении к математике вычитал, что французы вместо «восемьдесят» говорят «четырежды-двадцать». Там же узнал, чем отличается косая сажень от маховой. Но больше всего Федю впечатлили числовые разряды выше миллиарда. Правда, нигде это не находило применения, и он уж думал, никогда не найдёт. А и в самом деле: кому нужны всякие там квадриллионы, квинтиллионы и прочие «лионы»? Разве что астрономам?
Классе в шестом на уроке русского, когда речь зашла об иностранных словах, учительница спросила:
- Дети, а какие вы знаете слова, образованные от греческих корней?
Федины «пять копеек» - тут как тут:
- Какофония, то есть неблагозвучие. Фонус - это звук, а какос – плохой, - и продолжая с той же интонацией, - от какос происходит глагол «какать». Непонятно, зачем было брать греческое слово, когда есть нормальное русское с…
- Так, Бакланов, не уточняй! – под общий смех перебила его учительница. - И вообще, сядь на место!
- Но вы же сказали привести примеры, вот я и привёл, - возразил Фёдор с обиженно-серьёзной миной, чем вызвал новый взрыв хохота.
Когда класс пересмеялся, он не к месту заявил:
- Кстати, имя Фёдор по-латыни означает «божий дар»!
- У-у-у-у, - прокатилось по рядам.
- Оно и видно! Сядь, я тебе говорю! – раздражённая училка всё никак не могла идти дальше по плану урока.
На какое-то время за Баклановым закрепилось прозвище «Божий Дар». Естественно, с ироническим оттенком.
С годами Феде всё больше нравилось быть предметом разговора. И не важно, в каком ключе – хорошем или плохом, в узком или широком кругу, день или полчаса. Фёдора натурально ломало, если о нём долго не упоминали. А что может быть хуже забвения? Только полное забвение.
В старших классах Бакланов пытался взяться за ум. Читал учебники, готовил домашку, но в остальном оставался верен себе. На физике блистал внеклассными формулами, на математике – необычной логикой, да и в школьной программе такое выуживал, что учителя не знали, куда девать неловкость.
Больше всего Бакланов изощрялся на литературе. Когда проходили Онегина, вызвался раскрыть образ Татьяны Лариной. В изумлённо-притихшем классе он пожинал успех рассказом об её возможных прототипах.
Как бы между прочим назвал Татьяну… Дмитриевной. Учительница оторвала взгляд от классного журнала, брови поползли на лоб, даже очки сняла и спрашивает:
- Бакланов, а с чего ты взял, что она Дмитриевна?
Федя этого и ждал. Надо было видеть его торжествующую мину. А жесты! Правая рука изогнута в локте на уровне плеча, пальцы веером, надменные края губ, растянутые в улыбке, прищуренный взгляд …
В ход пошла домашняя заготовка:
- Видите ли, Прасковья Васильевна (мимикой и жестами апеллируя к классу), в стихе… э-э-э… тридцать шестом… да, именно там. Так вот, в стихе тридцать шестом об отце семейства Лариных Пушкин сообщает нам следующее:
Он был простой и добрый барин,
И там, где прах его лежит,
Надгробный памятник гласит:
Смиренный грешник, Дмитрий Ларин,
Господний раб и бригадир
Под камнем сим вкушает мир.
- Так что, - снисходительно кивая, продолжал Фёдор, - Дмитриевна она звалась, Татьяна Дмитриевна.
От нахлынувших эмоций он даже не задумался, как правильно: звалась кем или звалась как? Да ему и не суть важно: фурор уже произведен.
Класс одобрительно загудел, а Прасковья Васильевна, слывшая лучшей среди «русских» преподавателей, подавляя смущение, решила выбить инициативу из рук самодовольного знатока:
- Молодец, Бакланов! Докопался!
Прозвучало не очень убедительно, и Федя саркастическим тоном упрочил статус-кво:
- Ну, вы же сами нам постоянно говорите, что тексты надо читать внимательно.
Это уже «потолок», апогей. Симпатии на стороне Бакланова. Безоговорочно!
Не желая терять даже толику успеха, он ни к селу ни к городу поинтересовался, знает ли кто, почему строка «Мой дядя самых честных правил…» во времена Пушкина вызывала смех. Ответа нет, и все ждут с нетерпением, чем ещё их ошарашит доморощенный эрудит. А вот чем!
- Дело в том, - прищурившись, Федя снова придал телу позу оратора с указательным пальцем кверху, - дело в том, что во времена Пушкина жил и творил дедушка Крылов. Так вот у Ивана Андреича есть басня «Осёл и мужик». Она-то и начинается фразой «Осёл был самых честных правил», так удачно обыгранной Алессан-Сергеичем.
Аудитория тихо внимала. От Прасковьи Васильевны не ускользнуло фамильярное обхождение с именами классиков. Педагог дала Фёдору возможность выговориться, надеясь, что в конце концов он запутается в словесах и на чём-то проколется. Это, думала она, послужит хорошим уроком зазнайке Бакланову, да и другим любителям повыделываться.
Оратор пребывал на пике красноречия. Заворожённо, будто в состоянии транса, класс поглощал его каждое слово. Если бы Федя надумал зловеще пробасить: «Бандерлоги! Хорошо ли вы меня слышите?», ответ вряд ли нуждался бы в уточнениях.
Только во всём нужна мера. В Украине есть поговорка «передати куті меду». Нынче это зовётся «перебор». Именно его и допустил Фёдор Бакланов, когда надменно прибавил:
- Правда, в наше время эта басня известна только специалистам.
Ну-у-у, это уж совсем... Посыпались шутки, смешки, реплики «Федя-специалист», «профессор Бакланов» и прочее. И пусть не поражение, но потерю толики реноме он ощутил.
Авторитет постепенно восстановился, и укреплял его Фёдор ещё не раз.
Когда изучали «Горе от ума», Бакланов назвал Чацкого хамом, болтуном и бездельником, притом со ссылкой на текст комедии, где нет упоминаний о занятиях Чацкого, его образовании, взглядах. Окромя разве что согласия служить и твёрдого отказа прислуживаться, от чего Чацкому, видите ли, тошно. И ни намёка, окончил ли герой хоть какой-то замухрыстый университет. А раз так, значит, он не только трепло, но и невежда. И если Грибоедов нигде не указал, чем же занимался главный герой, то разве это не повод считать, что Александр Андреевич Чацкий – по сути дармоед и сибарит? В довершение сказанного Федя сослался на критику Белинского, а не на гончаровский «Мильон терзаний», назначенный как единственно верный трактат по «Горю от ума».
Учительнице ничего не оставалось, как твердить, что Бакланов чего-то недопонял и перейти к другому персонажу комедии. По классу прокатился рокот недовольства в знак понимания, что диспут училка проиграла. Акции Фёдора подскочили до небес.
На этом дискурсы «профессора Бакланова» не закончились. Потолком его изысканий оказался образ Анны Карениной. Отвечая урок, после долгих рассуждений о тяжкой женской доле Федя назвал Каренину… шлюхой!
Все привыкли к дерзким выводам Бакланова и к его умению доказывать свою правоту. И теперь, в ожидании новых откровений, класс окутала тишина. Жуткая тишина, до боли в ушах.
- А что? – не обращая внимания, пояснял Федя эту неканоническую трактовку образа героини. - Она бросила мужа и ребёнка, попрала патриархальные основы русского общества!
Все оживились в нетерпении, как же учитель опровергнет Бакланова, если сумеет, конечно.
Такие дискуссии давно воспринимались как спортивное зрелище. Публика жаждала поединка. И его ход зависел от педагога, оппонирующего ученику-выскочке.
Увы, на сей раз честного боя не получилось.
- Бакланов, ты вообще-то думай, что говоришь! – резко перебил учитель-практикант. - Ты же несёшь откровенный бред!
- Николай Дмитриевич, а можно более аргументированно? – съязвил кто-то с «камчатки».
Класс дружно и шумно повернулся в сторону говорившего.
- Ага, жди! Щас начнётся, –послышался недавно ломанный бас инфантильного подростка, такого же, как Бакланов, наглого и заносчивого.
Учитель, быкоподобный мужлан, опешил от неожиданного поворота в сценарии урока. Пунцовое от волнения лицо перекосилось от забегавших желваков. Выходец из крестьянской семьи, он привык всё выполнять не как на ум взбредёт, а «как надо». Тем более скоро сдавать отчёт о практике, а там не за горами защита диплома, и скандал ему совершенно не улыбался.
- Да тут же всё ясно! – спокойно продолжил Бакланов. - Тоже мне, «протест против общественных устоев». Кстати, Николай Дмитриевич, а вы знаете, что от первого секретаря горкома недавно ушла жена? Да не с кем-нибудь, а с офице-еро-ом! (Фёдор явно намекал на воинский статус Вронского). Так это что, по-вашему, бунт против советской власти? Или, может, против партии?
Последняя фраза вывела из терпения начинающего педагога. Подобные шутки о коммунистической партии в то время могли закончиться в местах не столь отдалённых. Практикант потребовал, чтобы Фёдор вышел из класса и без родителей в школу не появлялся.
Уже в коридоре Бакланов приоткрыл дверь и, просунув голову в проём, уточнил:
- Не понял! Как это – без родителей не появлялся? Мне что, с ними каждый день приходить?
Класс грохнул от смеха, наблюдая за кривляниями забияки.
Изменившийся в лице учитель вскочил с места – и вдогонку за Федей. Не желая получать затрещины да подзатыльники, тот захлопнул дверь. Коридор залился эхом от топота бегущих ног.
Так Федя и добежал до выпускного, а затем и до нынешнего статуса «на подхвате».
***
Глава 4
Согласно с чем
Понедельник, 4 октября 1993 г.
Время – 09:45.
Задание получено. Теперь нет нужды нагнетать ауру дикой озабоченности, тащить из библиотеки журналы, что-то лихорадочно писать. И если начальство прицепится…
- А чем вы, Фёдор Михалыч, сегодня занимаетесь?
… тут же и выдать:
- А вот! Готовлю раздел по…
…и далее без запинки: номер и название темы. Больше всего Фёдор боится вопросов – а что именно он пишет. Но если умело запудрить мозги формальными реквизитами, начальник отвянет вполне довольный. Мало кто дословно помнит даже название темы, а не то что её номер. Теперь же, когда поручена вычитка рекомендаций, – продукта коллективного труда, – у Фёдора железная отмазка на весь день, и неудобных вопросов не предвидится.
«Большая работа начинается с большого перекура» - этот принцип Федя исповедует буквально. Сегодня же делает исключение. Во-первых, закончилось курево, а «стрелять» он всегда считал зазорным. Во-вторых, на работу опоздал, и любая отлучка вызвала бы негодование коллег. Они и без того косо смотрят на нерадивого сотрудника, не знающего, чем заняться.
Фёдор не может понять, почему в НИИ – научно-исследовательском институте! – надо торчать в кабинете «от сих, до сих». Ведь наука регламента не терпит. Озарение может настигнуть не только за рабочим столом, но и во время партии в теннис или в шахматы. Идея может родиться даже во сне, как таблица Менделеева. И вообще, мозг учёного работает круглосуточно, разве не так? Руководство его аргументы не впечатляли, вот ничего и не оставалось, как тупо изображать активность с девяти до шести согласно распорядку.
На столе стопка бумаги с текстом. Сиди, вычитывай, правь, если видишь чего не так. И даже если не видишь, всё равно правь, иначе скажут, что читал невнимательно. Помарки, опечатки, неточности всегда заметней, когда глаз не замылен, и даже в безупречном тексте свежий взгляд хоть одного «жучка», да выцепит.
Текст по-украински. На календаре – начало 90-х. Пару лет назад комом с горы свалилась независимость. Росчерк пера парламентского спикера, подкреплённый волей граждан, выдал карт-бланш на создание новой державы со всеми атрибутами. Среди последних и язык.
Выяснилось, что украинский по-настоящему знает не так уж много народу, чтобы вести речь о нации как едином целом. Большинству граждан оказались неведомы многие нюансы «державной мовы». Часто на письме и в речи применялись русизмы из-за скудости словарного запаса. Да и откуда тому запасу взяться, если десятилетиями язык использовался разве что в фольклоре и в газетах?
Кто-то прекрасно знал украинский, думал на нём, искренне радовался, что наконец-то страна независимая, и «рідна мова» - одна для всех державная. Часть народа ненавидела украинский и считала его «наречием великорусского», или – по-Валуеву[1] – «украинского языка не было, нет и быть не может». А кому-то и вообще до лампочки, «по-каковски гутарить», - лишь бы понимать и быть понятым.
Что ни говори, но страна, едва успевшая родиться, столкнулась с языковой проблемой. Документацию следует писать по-украински, но мало кто умеет это делать на должном уровне. О грамотности даже речи нет.
Государственный язык не стал объединяющим началом. На одних территориях говорили по-русски, хоть и с примесью украинизмов. На других – по-украински, но по-разному, притом настолько, что порой казалось, люди говорят на разных языках.
Феде однажды попалась книга о том, как создавалась Италия в середине XIX века. Тогда земли, отнесённые к итальянским, были собраны в единое государство. По преданию, граф Кавур – один из отцов-основателей – изрёк программную фразу: «Италию мы создали. Теперь надо создать итальянцев».
Нечто подобное, считает Фёдор, наблюдается и в Украине: страна – есть, украинцев как единой нации – нет.
Федя не столько читает полученный талмуд, сколько размышляет о судьбе страны да об её народе. Коллеги время от времени меж собой советуются, какое слово чисто украинское, а какое привнесено и, значит, недопустимо. Особенно стараются избегать русизмов. Понятное дело – когда два близких языка живут бок о бок и вперемежку, ни один не выглядит чистым. И всё же для заимствований есть пределы, за которыми язык превращается в гибрид, суррогат, а точнее – суржик.
Путаницу вызывают и предлоги. В русском принято говорить «смеяться над кем-то», а «смеяться с кого-то» признано украинизмом или даже «одессизмом».
«Вот удача-то!» - заметив ошибку, Федя расцветает в лице. Вместо «згідно з чимось» (согласно чему-то) в тексте трижды встречается «згідно чогось» (всё равно, что неграмотное «согласно чего-то»). И надобно ж тому случиться, что накануне Федя приобрёл Словарь трудностей украинского языка! И сейчас же не преминул украдкой в него заглянуть.
Да, так и есть: «згідно з чимось». Фёдор прячет книгу в стол и, напустив на себя побольше важности, направляется к Зинаиде Андреевне.
- Простите…
- Да? – Коллега удивлённо вскидывает седые брови, рука машинально снимает очки, но не кладёт на стол, и они так и свисают меж пальцами за ручку. Нижняя губа чуть выпячена, глаза прищурены, брезгливая гримаса – типа чё ему, бездари, надо.
- Здесь бы исправить на «згідно з чим», - следует робкое предложение.
- Федя, не выдумывай! Надо писать – «згідно чого»! Плохо ты, братец, украинский знаешь.
Коллеги поддерживают Примакову. Хоть и не знают, как правильно, да только помыслить не могут, чтобы какой-то пижон осмелился поучать «саму Зинаиду Андреевну»!
К разговору подключается Виктор Васильевич Цветин, старший научный сотрудник, бывший партработник. Прежде по карьерной лестнице добрался до инструктора ЦК. Ездил по стране с проверками, не гнушался даров, капризничал, если ему подносили «не то». В конце концов пал жертвой элементарной подставы: подвели его под передачу «презента», и в нужный момент в кабинете возникли сотрудники прокуратуры, с понятыми да свидетелями. По закону Цветину грозило лет 8-10 с конфискацией, а по цековской солидарности его снабдили «золотым парашютом» в виде приличной должности в НИИ.
Цветина забавляет, как Примакова правит мозги Бакланову, и он не лишает себя удовольствия поддать сарказма:
- Ты бы, Федя, на курсы украинского походил. Тут в академии недавно открыли, - и особо подчеркивает, - для иностранцев.
Атмосферу пронзает поток насмешливых флюидов. Молоденькая Валя Зиновчук, новоиспечённый кандидат, подленько хихикает. Не в открытую, а так, чуть приглушённо, отчего смех больше напоминает сдавленное хрюканье.
Ожидания оправдались. Теперь надо выдержать паузу и гордо нанести победоносный удар. Нет, что ни говори, а дешёвые эффекты Феде удаются на «ура», хоть и нередко потом дорого ему обходятся. Ну так… то ж потом!
Вернувшись на рабочее место, Федя для вида шелестит бумагами, будто занят по самое не могу. Когда о нём забывают, рука тянется в ящик стола за «Словником труднощів української мови». С тем же равнодушным видом Бакланов снова подходит к Примаковой.
- Взгляните, пожалуйста, - показывает нужную статью словаря, на этот раз из принципа не обращаясь по имени-отчеству.
- А? Что? – встрепенувшись, интересуется профессор, бликая трусливыми глазками то в словарь, то на Федю. Чутьё подсказывает: случилась лажа и предстоит минута позора.
Самообладание надо сохранять. Примакова чуть прикусывает губу, покрасневшее от конфуза лицо покрывается испариной. Федя злорадно лицезреет мечущиеся зрачки, стараясь не выплеснуть радость от победы, хоть и мелкой, но приятной.
- Вот, сюда посмотрите, - пальцем указывает нужную строчку, - да-да, именно здесь, видите? – нудит он голосом, пестрящим спесивыми нотками.
Зинаида Андреевна изучает статью «згідно з чим». Поняв, что неправа, да ещё так опозорилась перед «неучем Баклановым», она упорно дырявит глазами страничку, желая потянуть время и отсрочить неизбежное. Федя распознаёт выжидательную тактику и…
- Кхе-кхе, - выразительно прочистив горло, нетерпеливой чечёткой стучит носком туфли об пол. Металлические набойки хорошо звенят даже о линолеум. Сцену довершают картинно вскинутая левая рука и подчёркнутый взгляд на часы, мол, время не терпит.
- Ну да, правильно, - наконец-то сконфуженно, тише обычного, выдавливает из себя Примакова, и Федя молча идёт на место.
Сотрудники оживляются. Никто больше не хихикает, и в общем замешательстве слышится:
- Надо же!
- Хм-м-м…
- Вот это да!
- Наш самородок-то чего выдал!
- Глядишь, молчит-молчит, а потом ка-ак…
- Ну, Федя, ты даёшь!
Реакции Бакланова не следует. В потоке двусмысленных похвал сквозит общая досада на то, что именно он, а не Примакова, оказался прав. Все понимают, что для Фёдора важно не истину выявить, а показать превосходство над окружающими хотя бы в чём-нибудь, пусть и в самом ничтожно-мелком.
Недоразумения такого рода возникали у Бакланова и прежде. Тяга к дешёвым эффектам приносила сиюминутную выгоду, но его гонор и надменность нередко ставили коллег в неловкое положение. Ему не раз по-доброму советовали вести себя скромнее. Он же воспринимал такие увещевания как прямой указ не высовываться. Но тогда это был бы не Фёдор Бакланов. Градус конфликта из раза в раз нарастал и сегодня, похоже, достиг точки закипания.
Фёдор уж собрался молча сесть на место. Его остановила реплика Виктора Васильевича:
- Это Федя специально словарь принёс, ткнуть нас носом, что мы, мол, не знаем украинской мовы.
- Да, Виктор Васильевич, именно для этого я словарь и притащил! – Федя едва не срывается за грань грубости.
Оживление сменяется шоком. Бакланова несёт:
- Специально месяц назад купил. Всё выжидал, когда же случай подвернётся. Даже пометку сделал. Вот, взгляните!
Федя украдкой чёркает карандашом «галочку» напротив «згідно з чим». В его руках книга совершает полукруг, чтобы все могли увидеть, где именно он сделал отметку.
- Видите? – его злорадный тон выходит за рамки привычного кривляния. - Я же знал, что рано или поздно кто-то из вас облажается. Потому что не только я украинского не знаю, но и вы далеко не ушли. Только понты гоните, что вот, мол, «які ми свідомі» (какие мы сознательные). Где же вы раньше были со своей свидомостью?
Обращаясь ко всем, Фёдор задерживает взгляд на Примаковой. Её лицо каменеет. Щёки, пунцовые от злости, нервно подрагивают. Руки неловко и рефлекторно перекладывают с места на место бумаги на столе.
Многие помнят, как в середине 80-х Зинаида Андреевна первая выступила в осуждение двух сотрудников, уличённых в украинском национализме. Когда же с 91-го украинство утвердилось на официальном уровне и превратилось в предмет гордости для одних и в профессию для других, Примакова, опять же среди первых, перешла с языка на мову. И больше не вспоминала отца-кагэбиста, прежде боровшегося с шовинизмом и национализмом. Не высказывалась и о том, сколько её папа «передавил и сгноил в Сибири этих националюг». Времена поменялись. Говорить о «подвигах» родителя нынче стало не только постыдно, но и небезопасно. Немудрено, что Примакова больше других принимает слова Фёдора на свой счёт, хотя и остальным его речи комфорта не создают.
А Фёдор беспощадно неукротим во гневе. Его раздражение накаляется с каждым словом:
- Какие вы на хрен «свидомые»? – гнёт он свою линию. – Вы… вы знаете, кто? Вы – конъюнктурщики! (Небольшая пауза.) Хотя нет! Для вас это чересчур лестно! Вы и слова такого не стоите! Вы – приспособленцы и прихлебатели! Вот вы кто! Скажи вам сейчас, что надо снова все писать и говорить по-русски, вы же мигом перекраситесь! Ваша сущность в том, что у вас нет никакой сущности!
Коллеги не знают, как реагировать на этот затянувшийся пассаж. Только очкарик Романченко, старший научный сотрудник, с круглой мордой о двух подбородках, недовольно бурчит:
- Ну, Баклан, ты ваще…
Фёдор не желает выслушивать, что он там «ваще». Не давая хаму опомниться, категоричным тоном требует:
- Так, полегче! Моя фамилия – Бакланов! Попрошу не коверкать!
Романченко – типичный быдловатый вампир. Ему только того и надо: зацепить, нахамить и, если ему платят той же монетой, продолжать натиск, покуда не выведет жертву из равновесия. Подпитается энергией – и доволен, а пострадавшего колотит по-чёрному. Вот и сейчас, почуяв в Бакланове «донора», он давай наращивать прессинг на ещё более повышенных тонах:
- Та шо ты тут развыступался! Баклан – ты и есть баклан! – для большей убедительности Романченко даже привстаёт.
- Я сказал – не сметь коверкать мою фамилию!!! – рявкает Фёдор, хлопая ладонью по столу. Карандаши и ручки в настольном наборе испуганно подпрыгивают.
Комната погружается в недобрую тишину. Взоры не участвующих в перепалке робко скользят с Бакланова на Романченко и обратно.
По молчаливому согласию требование Бакланова признаётся справедливым. Романченко чувствует неодобрение коллег и, ни на кого не глядя, садится на место.
В давнюю бытность председателем колхоза Николай Андреевич Романченко однажды по пьянке объявил о решении податься в науку. По материалам своего колхоза и ряда соседних нацарапал и защитил кандидатскую диссертацию. Тема – что-то там о машинном доении. В написание диссера председатель впряг весь плановый отдел, да и не только – работа нашлась многим спецам.
После защиты Романченко устроил шикарнющий банкет. За счёт «заведения», конечно. Обещал премию всем помощникам, но… забыл. Из колхоза ушёл по-плохому.
В институте ему предложили старшего научного сотрудника. Хотели дать отдел, но передумали: потенциал не тот, да и с характером его только пасти коров, а не людьми руководить.
Звонит телефон. На шесть сотрудников два аппарата – один приютился у Примаковой на столе, всегда заваленном бумагами, другим «командует» Валентина. Она же в основном и принимает звонки. В этот раз после «аллё» Валя, ни на кого не глядя, объявляет:
- Тут просят Фёдора Михайловича… Бакла-а-анова, – язвительно растягивая фамилию.
На неё Федя никогда не злится: мелкая сошка, считает он.
Валя держит трубку на весу, стервозным взглядом исподлобья следя за движениями Фёдора. Губы искривлены в подобие улыбки.
На ходу Федя перехватывает трубку. Валя украдкой проводит пальцем по его запястью. Он будто не замечает позывного сигнала и нарочно избегает встречи взглядами.
В трубке – извиняющийся голос Аллы Петровны: с новым квартирантом она придёт не сегодня, а завтра.
- Хорошо, завтра – так завтра, - соглашается Фёдор.
- Это я на тот случай, Федя, вдруг у тебя какие дела появятся на вечер.
- Да, спасибо, Алла Петровна. , - облегчённо вздыхает он, вспомнив о приглашении Капитана. «И хорошо, - думает, - в день по одному большому делу, не более».
Валя не может удержаться от комментария:
- Ах-ах-ах! Какие мы официальные! Алла Петровна… Нет чтобы – Аллочка!
Федя, не поворачивая глаз, резко машет на Вальку рукой, мол, «заткнись». Из-за неё Фёдор чуть не сболтнул «Передайте Карине спасибо за конфеты». Вовремя осёкся: Алле ни к чему знать о визитах замужней дочери к холостому квартиранту.
Бакланову Карина не нравилась. Вроде симпатичная, но не тянуло к ней. Бесцветные брови на фоне бледной кожи, ровные редкие волосы, аккуратно собранные в крысиный хвостик, Федю не возбуждали.
Едва ли не с первого дня появления Бакланова в качестве квартиранта Карина часто к нему захаживала с амурными намёками, но всякий раз получала безоговорочный «отлуп». Ссылался Федя на то, что муж у неё бандюк, да и дружки того же сорта. «Не хочу с ними связываться», - жёстко парировал он домогательства Карины. Только всё оказалось намного сложнее. Фёдор сам не заметил, как стал заложником ситуации.
- Спасибо, Алла Петровна. До встречи. – он едва не положил трубку, но словоохотливая квартирная хозяйка не унимается:
- Он хороший парень, стихи пишет, - рекламирует она луганчанина.
- Ну да, вы говорили. Простите, я немножко занят.
Словесное недержание проявляет и Романченко:
- «Немножко»! - передразнивает Фёдора. – Вот был бы занят «множко», то не было бы времени на всякие штучки.
- Да, ещё, Алла Петровна, - Федя игнорирует реплику, - завтра я дома после девяти. У меня вечером тренировка… Всё… Хорошо… До свидания.
Вешает трубку и, пожав плечами, ни на кого не глядя, качает головой. Реагировать на всякие глупости явно недосуг: Федю ждёт работа и возможно ещё какие-нибудь открытия, эффектные находки.
В комнате воцаряется гнетущее молчание. Сотрудники время от времени искоса поглядывают на Федю в опасливом ожидании новых сюрпризов, способных любому из них подпортить кровь. Сам же Фёдор никогда не беспокоится, что кто-то возьмётся доказывать его профнепригодность или неодарённость как научного сотрудника. Об учёном и речи нет. Но когда преднамеренно искажают его фамилию, Бакланов атакует мощно и беспощадно.
[1] Граф Пётр Валуев (1815-1890), министр внутренних дел Российской империи. В 1863 году издал циркуляр, названный Валуевским. Документ ограничивал издание книг на украинском языке.
***
Глава 5
Почему – Баклан Свекольный?
1984-1985 гг.
Баклан – это птица. Есть морской баклан отряда пеликановых, есть и болотный, много их да разных. Только сейчас не о пернатых.
На блатном жаргоне баклан всегда означало «пустой человек», «хулиган». То есть не вор, не авторитет и даже не мужик, а так себе, что-то шалопайское. Знал ли об этом Фёдор или понятия не имел, но с детства терпеть не мог, когда его обзывали Бакланом. Только не в каждый роток впихнёшь колок. И в садике, и в школе «дразнилкины» доставали неслабо. Получали, конечно, по морде. Перепадало и Феде за то, что обижался.
В университете с ним на курсе учились два тёзки. Различали их по производным от фамилий. Общественно активный Федя Комиссаржевский звался Комиссаром. Скрытного Федю Фармазонова, разумеется, нарекли Фармазоном. С Баклановым тоже не мудрили.
Обижался Федя до тех пор, пока на втором курсе Баклан не дополнился Свекольным. И не потому, что среди студентов появился его однофамилец, а так сложился день один, после которого Баклан Свекольный звучало настолько часто, что настоящее имя и вспоминалось-то не сразу. Федя даже обрадовался новому «погонялу» и шутил, что если надумает писать книги, то псевдоним уже готов. А что? Ведь миру известен не Алексей Пешков, а Максим Горький. Почему тогда не Баклан Свекольный?
Шутки шутками, но однажды на доске объявлений список делегатов местной конференции предстал таким образом:
Алёна Минина –группа ТО-42
Кирилл Боярский – группа БУ-36
Валерий Косых – группа ЭТ-21
Анна Грюнфельд – группа ЭТ -21
Баклан Свекольный – группа ЭТ-21
Как туда вклинился псевдоним «будущего писателя», выяснить не удалось. Изменения внесли, хотя посвящённые обхохотались до судорог.
Начало всему положила сакраментальная фраза Фединого одногруппника.
А дело было так.
Шёл семинар по экономике торговли. Преподаватель – Алевтина Ниловна Вересай. Она же куратор группы, навроде школьной «классухи». Будучи в курсе учебных и, разумеется, личных дел подопечных, Алевтина могла часть времени посвятить вопросам, далёким не только от темы семинара, но и вообще от экономики. Получалось как в школе, где ученики хуже всего знают предмет классного руководителя.
«Кураторшу» Федя не любил, и она платила той же монетой. Ну бывает такое: взаимной антипатией зовётся. Никто, даже Федя и Алевтина, не помнил, с чего возник перманентный конфликт, не закончившийся даже после вручения дипломов. И лишь на пятилетие выпуска меж ними заведётся мирный, непринуждённый трёп. А что делить-то теперь? Жизнь у каждого сложилась так, как сам её сложил. И в ресторане, на встрече выпускников, Федя с поднятым бокалом коротенько поведал про послеинститутскую карьеру, после чего извинился перед куратором за то, что все годы учёбы «делал ей нервы».
Одногруппники встретили покаяние аплодисментами, будто только и ждали, когда же Баклан помирится с Мамкой (так меж собой они звали куратора).
Алевтину растрогали слова прежде нерадивого «курёнка». Она едва начала: «Феденька, да что ты…» - как предательский комок под гландами не дал закончить алаверды. Вересай из-за стола направилась к Фёдору и, обняв покаявшегося, достала из кармашка юбки носовой платок.
Но это всё – потом. А нынче второкурсник Фёдор Бакланов и его куратор Алевтина Ниловна Вересай едва ли не на ножах. И если в расписании указан её семинар в группе ЭТ-21, все понимали: будет весело. Сокурсники перешёптывались: «Интересно, а что Федька отчебучит на этот раз?» В других группах тоже любопытствовали: «Ну как там Баклан? Опять Алевтину доставал?» Да и мудрено ли? Самое безобидное, что мог сотворить Федя, это листать шахматный журнал, когда народ корпит над задачками по товарным потокам. Доставал бесконечными репликами, особенно во время пояснений Алевтины. Не раз и не два за семестр звучало гневное: «Бакланов! Покиньте аудиторию!» Фёдор не возражал, а лишь намеренно долго и шумно собирал портфель, после чего вальяжно выкатывался в коридор.
По группе кочевал слушок, что Алевтина подала на развод. Будто бы застукала мужа «на горячем», да притом с её лучшей подругой. Правда то или нет, но по удручённому виду Алевтины Ниловны все понимали: слухи едва ли сильно преувеличены.
Вересай вошла после второго звонка. Мрачнее обычного прозвучало:
- Добрый день. Прошу садиться.
Вмиг серьезные лица, все по местам, тихо-тихо, и только шуршали конспекты – авось успеется хоть что-нибудь освежить в памяти.
Ожидалась контрольная, вторая подряд. Положив на стол журнал группы и пачку проверенных работ, Алевтина молча, ни на кого не глядя, двумя пальцами выловила из коробки с мелом брусок подлиннее да потолще. За несколько минут доска сверху донизу покрылась двумя вариантами контрольной. Отойдя в сторону и пробежав по доске взглядом, «преподша» убедилась, что всё записано точно.
В полной тишине группа вникала в задания.
Став лицом к аудитории, Алевтина завела такую речь:
- Товарищи, прежде чем вы приступите к работе, я должна сказать вот что: грамотнéе надо писать, дорогие мои! Грамотнéе! Вы же взрослые люди! Студенты вуза! – патетически восклицала Вересай, размахивая над головой указательным пальцем.
Аудитория молча внимала, лица напряжены. Только Бакланов, откинувшись на стуле, всем видом давал понять, что ему безразличны призывы писать «грамотнéе». Он-то был уверен, что надо «грáмотнее».
Вид из окна не вдохновлял: пасмурно и серо. И мысли какие-то лезли не те. Из портфеля Федя достал журнал «Ровесник» и начал демонстративно его листать.
Алевтина сбавила патетику, перейдя на более спокойный тон:
- Вот проверила контрольные. Друзья мои! Слово «маркетинг» пишется «мар-ке-тИнг», - произнесла она по слогам и для большей убедительности втиснулась мелом промеж вариантов на доске.
«Специально, что ли, место оставила?» - подумал Бакланов, но от комментариев удержался.
- А что, кто-то написал иначе? – на полном серьёзе поинтересовался Валера Косых, «учёное светило» группы и всего курса.
- Да, Валерий, представьте себе. Не буду называть фамилий, но некоторые написали «маркетЕнг».
С задних рядов донеслось хихиканье. За суровым взглядом Вересай последовало предсказуемое:
- Бакланов! Вы опять? – она едва держала себя в руках, глядя на развалившегося на стуле Фёдора.
- А шо такое? Я ничо не делаю! Чуть шо, сразу Бакланов! – Федя притворился обиженным.
- Прекратите свои школярские штучки! «Ничего не делаю»! - передразнила Алевтина. – Ещё раз хихикнете, и я вас выставлю из аудитории!
- Ну это понятно, - вполголоса прогундосил Фёдор.
- Что?! – едва не закипела Алевтина.
- Не-не-не, ничо, ничо, - Федя не пожелал заострять момент. В его сторону повернулся десяток голов. Молчаливое требование группы к Бакланову - прекратить дуркования. После сердитого шёпота Ани Грюнфельд - «Бакланов, заткнись!» - Фёдор умолк.
- Кстати, - продолжила Вересай, - по правилам русского языка надо произносить не мáркетинг, а маркéтинг.
Тут вмешался Валера Косых, всегда пристрастный к точному написанию, произношению и ничего не принимавший на веру.
- Дико извиняюсь, но что-то я не слышал такого правила. Может, разъясните, Алевтина Ниловна, уважаемая вы наша? – с явной подковыркой спросил Косых.
Фёдор беззвучно ухмыльнулся оскалом одной стороны рта, прикрыв ладонями лицо. Алевтина заметила, но почему-то с укором обратилась к Валере:
- Косых, и вы туда же? Мало мне… - она едва не выговорила «Бакланова», но Валера потребовал уточнения:
- Да нет, я серьёзно! Что это за правило? В оригинале ударение ставится на первом слоге, márketing, - произнёс он, имитируя американский прононс, - вот я и не понимаю, по какому правилу можно так менять ударение.
Освоение тонкостей русского языка не входило в план занятия, и Вересай оставила вопрос без внимания. Да и время уж давило – пора переходить к контрольной. Никто на продолжении дискуссии не настаивал.
В ходе пояснений задачи Вересай применила неточное ударение, и привычная «свёкла» резанула ухо просторечным «свеклá». Из соседнего ряда Косых переглянулся с Баклановым. После обмена злорадными улыбочками Валера переключил внимание на доску. Федя же, будучи глупее – просто по жизни глупее – возьми, да и ляпни:
- Вообще-то, правильно не свеклá, а свёкла.
Среди студентов пробежал смешок, тут же осёкшись: окаменело-зловещее лицо Алевтины не предвещало ничего доброго. Сдержанно, сквозь зубы, она процедила:
- Да, вы правы.
- У-у-у, - пронеслось по аудитории.
Самодовольный Бакланов триумфальным взглядом искал поддержки в группе. Все сидели, уткнувшись в тетрадки, чтобы не допустить зрительного контакта с Фёдором, тем самым косвенно выказывая смельчаку одобрение. Никто их них не решился бы указать куратору на ошибку, да ещё при всех.
Косых единственный, кто не поддержал одногруппника и того не скрывал. С упрёком во взгляде покачал головой, как бы говоря: «Ну, зачем ты?»
Контрольная началась. Бакланов решил, что коль сидит за партой один, то может писать любой из двух вариантов. Выбрав тот, что полегче, пересел на другую сторону парты.
Минут пятнадцать – и всё написано, проверено, перепроверено… Ну, ещё один беглый взгляд… И работу можно сдавать.
Собрав контрольные, Вересай предложила студентам ознакомиться с новым материалом, покуда закончит проверку.
Народ окунулся в чтение. В атмосфере тотального шёпота кому-то приходили идеи, кто-то не соглашался:
- О! Я знаю, как надо!
- Та не! Ты шо! Куда?
Время от времени Алевтина, отвлекаясь от проверки, молча, до боли знакомым строгим взглядом гасила страсти увлёкшихся спорщиков.
И вдруг – как болтом по носу:
- Бакланову – «единица» за то, что писал не свой вариант!
- Чё это – не свой?! – шумно возмутился Фёдор, уже не страшась быть выставленным за дверь. - Я ж один сижу! Какой вариант захотел, такой и выбрал! Шо такое?!
- Выбирать, Бакланов, будете на выборах! – ни к селу ни к городу выдала Алевтина.
- Ну-у, я тогда не знаю… - с досадой проворчал Федя, вполоборота влево повернув корпус. Правый локоть упёрся в середину стола. Обхватив ладонью лоб, Бакланов удручённо качал головой.
Его кислое лицо не оставило равнодушным Косых:
- Вот тебе и свеклá, дружочек! Ну кто тебя, придурка, за язык-то тянул? Баклан ты, Федька! Баклан свекольный!
В ответ – ни слова. Фёдор даже не слушал, что ему впаривал этот умник.
- Косых! Прекратите немедленно! – зычно завопила Вересай, оказавшись не только вне себя, но и вне здравого смысла.
Ситуация для педагога щепетильная. Сказать прямо – отомстила? Так об этом все и без неё догадались. Отрицать – значит обороняться, да не в свою пользу. Тогда уж не останется ни йоты сомнений, что Алевтина тупо и мелко поквиталась. Но нельзя и совсем не дать понять Бакланову, за что он схлопотал «кол».
Как же быть?
В классе тишина, перебиваемая гулом автомобилей за окном и доносившимся из коридора ворчанием бабы Нюры, уборщицы. Той всегда что-то не так, как надо, а точнее – не так, как в «раньшем времени».
Вересай не нашла выхода из неловкой ситуации, но каждый для себя извлёк надлежащий урок, в том числе и Бакланов.
В универе полагалось отрабатывать как пропущенные занятия, так и полученные «неуды». Для отработки давались отдельные часы.
Федя пришёл на кафедру в назначенное время. Сдал одну тему, другую, а когда очередь дошла до последней, тут-то Вересай и прокололась:
- Это за «свеклу»? - ехидная улыбочка скривила её густо напомаженные губы. Прищуренные симпатичные глазки показались Фёдору мелкими и гадкими. В ответ он вложил ехидства не меньше:
- Нет, Алевтина Ниловна, за свёклу.
На отработку довелось прийти ещё раз.
***
Глава 6.
«Квантильоны»
Понедельник, 4 октября 1993 г.
Время – 10:50.
В наступившую тишину постепенно вливается поток шагов, доносящийся из коридора. К нему присоединяется громкое сопение. В сторону кабинета на всех парах несётся Павел Иванович Маслаченко.
Пал Иваныч – замзавотделом. В институте считается, что именно ему принадлежит фраза: «Автор не тот, кто придумал, а тот, кто первый опубликовал». К этому запоздалому выводу Маслаченко пришёл после выступления на учёном совете с идеями, им выстраданными, но давеча вышедшими в статье другого автора.
Диссертацию Павел Иванович писал долго, пропустил все сроки в настойчивых потугах достичь совершенства. Публиковаться не спешил, вынашивал идеи, наполняя их «практикой». Другие поступали умнее: появилась мысль – тут же её в тезисы на ближайшую конференцию. А если идея попадает в сборник тезисов – авторство, считай, забито. Потом уж собирай статистику, начитывайся литературы, в общем, доводи новинку до научного продукта.
Маслаченко считал такой сценарий неприемлемым. Нельзя, говорил он, выстреливать чистыми гипотезами. Мало ли! А вдруг не подтвердятся? Вот и не спешил, за что и поплатился: диссер пришлось переделывать процентов на семьдесят.
Из-за потерянных лет Маслаченко изрядно комплексует и в должности замзава прессует подчинённых за то, чем прежде грешил сам: публикуйтесь, - говорит, - выходите на конференции, форумы и т.п.
Противный дверной скрип – и запыхавшийся Пал Иваныч врывается в кабинет. Сотрудники давно привыкли, что замзав не входит, а именно врывается. Говорили, будто до сельхозинститута он служил в угрозыске, а дыхание сбилось из-за постоянной беготни. Всё ему казалось, что мотание по кабинетам позволит быстрее решать текущие вопросы, а заодно управлять процессом зарождения научных идей.
Едва переступив порог, Маслаченко живо интересуется:
- Как идёт вычитка?
В ответ бодрый нестройный хор:
- Продвигается.
- Заканчиваем.
- Немножко ещё.
И прочее.
На появление зама Фёдор не реагирует. В конце концов, уже виделись, нагоняй получил – зачем высовываться? А скажет чего не так, опять нарвётся на конфликт.
Цветин и Примакова время от времени искоса поглядывают на Бакланова. «Косяки» не остаются незамеченными. С кривой улыбкой и слегка наклоняясь, так чтобы взглянуть Бакланову в глаза, Маслаченко въедливо любопытствует:
- Что, Фёдор, мало опоздания, так ты ещё чего-то накуролесил?
- Ничего я не куролесил, - равнодушно и не поднимая головы от бумаг, отвечает он, – работаю над тем, что и все.
«Как же вы меня достали!» - на самом деле крутится в его мыслемешалке. В таких случаях Федя старается, как говорят американцы, «держать низкий профиль»[1], то есть не высовываться. Маслаченко и без того теряет к нему интерес, припомнив, зачем пришёл:
- Слушайте, коллеги, мы тут показали датчанам расчёты по бюджету. Там сейчас обсуждают. - машет рукой как бы в сторону дирекции. - Только вот какая загвоздка. Мы занесли в прогноз нынешние темпы инфляции. Так представляете, получается столько нулей… Мы уже с миллиардов перешли на … что там дальше?
С прищуром экзаменатора окидывает взглядом озадаченные лица.
- Триллионы! - выстреливает самодовольная Валька.
- Правильно! А ещё дальше? – продолжается «экзамен».
Ответа нет. Да и откуда? Кому ещё год назад пришло бы в голову, что госбюджет придётся считать в таких запредельных цифрах? Не астрономия ведь!
- Вот видите, - Маслаченко будто радуется, - и никто не знает. Датчане – и те не в курсе.
- Да и у нас вряд ли кто в курсе, - улыбается Виктор Васильевич.
Коллеги дружно кивают:
- Угу.
- Ну да.
- Ага.
Федя понимает, что ошибся: эффектная находка «згідно з чим» досадливо уходит в тень перед другой, обещающей стать не менее сногсшибательной. Тут-то ему и приходят на помощь скудные, но исключительные знания, почерпнутые за пределами школы. В голове проносится ликующее «наконец-то!», и Федя приступает к действу. Напустив на себя максимум равнодушия, дабы скрыть бьющее через край упоение от ожидаемого фурора, Фёдор являет себя народу:
- Почему – вряд ли?
На него устремляется несколько пар изумлённых глаз. В кабинете зависает немой вопрос: «Чего он там ещё выдаст?»
Завладев общим вниманием и радуясь хорошему началу, Федя менторским тоном продолжает, растопырив пятерню для загибания пальцев:
- После триллионов следуют квадриллионы (мизинец), квинтиллионы (безымянный), секстиллионы (средний)…
От удивления у Маслаченко брови тянутся вверх, глаза по-рыбьему округляются, нижняя губа заползает на верхнюю. С глуповатым лицом он только и в состоянии протянуть:
- Ничего себе-е-е… А ну, подожди…
…и вылетает из кабинета. Федя раздосадованно смотрит убежавшему начальнику вслед и, пожав плечами, по инерции, хоть и с потухшим энтузиазмом, бурчит:
- …септиллионы, октиллионы, нон… а! - машет рукой.
Решив, что на ближайшие годы числовых разрядов достаточно, Фёдор как ни в чём не бывало возвращается «к нашим баранам», то есть к вычитке. Отдельные слова подчеркивает карандашом. И не потому, что находит неточности, а так, для виду, мол, прошу не мешать, я занят.
Кабинет окутывает аура недоверия. Толстый очкарик Николай Андреевич Романченко, пришедший в науку от сохи, сипловато басит:
- Ну ты, Бакланов, даёшь! Хоть сам-то понял, чего нагородил? Шо ты опять выступаешь? – Романченко постепенно закипает. - Чё ты пыжишься? Ирудицию, понимаете ли, показывает! - кривляется, вызывая общее хмыканье.
- Ерундицию, - Валя не может не съехидничать, когда Фёдор подвергается наезду.
- И на кой тебе это надо, а? – не успокаивается Романченко. - Умного из себя корчишь?
Примакова ни гу-гу. Чутьё подсказывает ей, что не стоит к Бакланову проявлять категоричность. После утреннего позора, давшего понять, что в грамматике она знает не всё, Зинаида Андреевна относится к Фёдору без прежнего недоверия. Остальные усердно распекают того, кого тот же Романченко по-детски обзывает «Федя выскочка – в ж…е кисточка».
Неизвестно, чем бы закончилась эта психическая атака, если бы не Леонид Нехемьевич Кацман, доктор наук, возраста преклонного, невысокий, щуплый, с чеховской бородкой и в очках с толстенными линзами. Он единственный в институте, кто носит бабочку вместо галстука.
Леонид Нехемьевич – из недобитых советской властью интеллигентов. Из тех, кто не только помнит диссидентов-шестидесятников, но и сам состоял в их числе. Человек бесконфликтный. Истину доказывает словами, убеждая собеседника логикой и аргументами. Говорит мало, но по делу.
До сего момента Кацман сидел задумчиво, ни во что не вмешивался, делая пометки на листках, разложенных на столе. Прокашлявшись, он негромко замечает:
- Я сам этих чисел не помню, столько лет прошло. Да и не уверен, что мы их в школе учили. Но, мне кажется, Фёдор прав.
- Да кто прав, Нехэмыч? Шо вы городите? – раздражённо, чуть не криком, отзывается доктор Цветин, по хамству мало уступающий кандидату наук Романченко.
- Виктор Васильевич, вы будьте так добры, выбирайте выражения, - не повышая тон, в меру ядовито пресекает Кацман, - и я вам не Нехэмыч, а Леонид Нехемьевич. И когда вы ещё игрались погремушками, я получил первое авторское свидетельство.
- Извините, - осекается Цветин, и далее - в прежнем духе. - Он же сам выдумал на ходу какие-то иероглифы и понтуется! (Новоиспечённый доктор наук не чурался молодёжной лексики.) Ведь ты же выдумал, Бакланов? Скажи честно! Выдумал?
Багровея в лице, Виктор Васильевич всё больше наседает на психику Фёдора. Стена равнодушия последнего выводит его из терпения. В ярости Цветин даже ломает авторучку, чему сам же удивляется:
– Тю!
Бакланов упорно игнорирует хамский наезд старшего коллеги, преспокойно выжидая, когда же тот достигнет предела собственного бескультурья. Куда там! Не дождаться! Останавливает Цветина только появление Маслаченко, потребовавшего:
- А ну, Федя, за мной!
Ну, скажем, подскакивать и бежать по любой команде – вовсе не в духе Бакланова, хотя и не подчиниться – значит накликать новые неприятности. В поисках наилучшей реакции на требование шефа Фёдор паясничает и, вставая смирно, прилагает к виску левую(!) руку, будто честь отдаёт:
- Есть, товарищ начальник!
Выйдя из-за стола и захватив огромный блокнот, строевым шагом направляется к выходу.
Маслаченко открывает дверь, останавливаясь в её створе и не реагируя на кривляния подчинённого.
«Видать, не до того, - думает Фёдор, - даже замечания не сделал. Чего у них там стряслось, если сам Бакланов понадобился?» - иронизирует он дальше, мысля о себе в третьем лице.
«Неужели про числа?» - осеняет его догадка.
На ум приходит и другая версия: Бакланов прекрасно владеет английским. Именно на этом языке проводится подавляющее большинство международных конференций, переговоров, по крайней мере, представителями тех стран, чьи языки не относятся к широко изучаемым.
Ну, с английским история отдельная. Ещё в школе Федя поставил цель выучить на память словарь Мюллера. И почти весь-то и выучил, чем приводил в восторг посвящённых: там-таки слов – тыщ семьдесят или больше. И до лампочки, что остальные предметы запустил. Зато с каким злорадством ставил в неловкое положение школьных «англичанок» и университетских преподов! Не любили они Федю и старались под любым предлогом сплавить его то на хозчасть, то на культурные мероприятия, лишь бы не торчал на занятиях да не выделывался. А нынче по части словарного запаса равных ему не находилось не то что в институте, но и чуть ли не в городе.
Только сейчас, наверное, даже английский отошёл на второй план. Сегодня в переговорах участвуют датчане. Для Феди это ключевое слово.
Со студенческих лет, вновь-таки, желая выделиться, Фёдор, кроме английского, учил датский. Самостоятельно учил, вопреки насмешкам однокурсников. Овладел им довольно сносно, хотя применения не находил. До сего дня. И тут, надо же, датчане! Живые носители языка Андерсена! Это же такой шанс! Может, раз в жизни! Надо выдавить из ситуации по максимуму, думает Фёдор на пути к директорскому кабинету.
Маслаченко спешно семенит. Со стороны это выглядит потешно – при его низком росте и нескладно коротких ногах. Следом за ним королевской походкой вышагивает Фёдор Михайлович Бакланов, аж целый младший научный сотрудник, где-то в неясном будущем кандидат экономических наук. Спина прямая, нос над ватерлинией, глаза насмешливо прищурены, губы тронуты мерзенькой улыбкой, на вид – победитель-триумфатор.
Приёмная. За столом секретарша Ольга Выдрина, та самая, что за глаза прозвана Выдрой.
Маслаченко на ходу:
- Это со мной.
И, не поворачиваясь, правой рукой, сложенной в кулак с торчащим большим пальцем, указывает на Фёдора.
Через распахнутую дверь Маслаченко оповещает присутствующих:
- Привёл!
И Фёдору:
- Давай, заходи!
Торопиться некуда, считает самоуверенный Бакланов и вразвалочку подходит к Ольгиному столу. Глаза оценивающе пробегают по новинкам Ольгиного гардероба:
- Неплохо выглядишь. Особенно после вчерашнего. Хе-хе-хе-хе-хе! Да и «прикид» ничего, - имея в виду её модную жакетку, - что, вчера заработала? Не сдвигая ног? Хе-ге-ге-ге-ге!
Оскорблённая и опешившая от невероятного хамства, Ольга не находит слов, чтобы осадить зарвавшегося негодяя.
Гардероб её в самом деле обновился. Под расстёгнутой синей жакеткой красуется жёлтый свитер типа «гольф», рельефно оттеняющий достоинства фигуры, предмета зависти женской половины института и тайного (но и не только) поклонения мужской.
Из канцелярского прибора на краю стола Фёдор вылавливает сувенирную ручку. Его внимание захватывает симпатичная инкрустация. Щёлкнув кнопкой, делает вид, будто ему надо что-то записать в блокнот. Как бы между делом, не глядя на Ольгу, замечает:
- Вообще-то я не с ним, а сам по себе. Мне тут хотелось довести шефу пожелания коллектива.
Дверь кабинета приоткрывается, и через её створ голова Маслаченко гневно исторгает:
- Ну где ты там? Тебя все ждут!
Ольга, так и не привыкшая к хамству Бакланова, с интересом наблюдает сцену, грозящую закончиться скандалом. Даже открывает рот с готовностью вмешаться. Положив сувенир на место, Федя жестом - открытой ладонью - упреждает всё, что Выдра готова изречь ему во вред:
- Ладно, мне пора. Потом договоримся. Ты сегодня вечером свободна?
Не дожидаясь ответа, Федя всё же торопится войти. В конце концов, когда дразнишь гусей, надо знать меру.
В кабинете стол для переговоров расположен ближе к окнам. Со стены, над директорским креслом, с портрета на публику взирает Президент страны. Полочки книжных шкафов изобилуют справочниками, журналами. Один из углов комнаты украшен флагом Украины, на деревянной подставке. А куда денешься! Институт живёт в основном на подачки державы, а значит, флаг – непременный атрибут кабинета директора.
Никто не предлагает Фёдору влиться в украинскую группу, да и просто сесть. Торчать каланчой посреди комнаты совсем неинтересно, и Бакланов глазами находит свободный стул у стены. Едва намеревается его занять, как Маслаченко ладонью вытянутой руки сигналит, мол, стой и жди указаний. Заметив, что Бакланов усаживается, замзав, так и держа руку на весу, гневно таращится на Фёдора. По беззвучной гримасе Маслаченко может показаться, будто ему в рот попало что-то кислое.
За столом по одну сторону – украинские эксперты, человек десять-двенадцать: академики почтенного возраста, профессора, научные сотрудники. Почти все – мужчины. Прекрасный пол представлен одной сотрудницей, более чем средних лет, недавно перешедшей в институт из аграрного колледжа. Внешне – типичный «синий чулок». Фёдор видит её впервые.
В когорту помпезных мафусаилов явно не вписывается кудрявый брюнет Ерышев, тридцати двух лет, самый молодой в стране доктор наук. Сидит смирненько, задавленный старшими авторитетами от науки. Говорит лишь когда его спрашивают, больше слушает, вникает – в общем, ведёт себя, как подобает молодому учёному, будь он хоть трижды доктор.
По другую сторону стола – гости, двое мужчин и две женщины. Самый «старый» - руководитель группы, доктор Ийес Педерсен, лет под сорок. Длинная густая борода придаёт ему сходство с Кристианом Третьим[2].
Маслаченко с Баклановым заходят, когда Педерсен рассказывет о грантах на стажировку для стран с «переходной экономикой». Фёдор заслушивается. Поехать-то ему хотелось, но как?
Директор, Пётр Тимофеевич Саврук, худощавый пожилой академик, вопреки этикету, занял кресло во главе стола, а не с украинской стороны. Савруку невдомёк, что место его – среди коллег, напротив гостей. Несмотря на должность, в этих переговорах он участник, а не модератор.
Руководитель института – парень простой, из глубинки, хоть и с «верхним» образованием и двумя учёными степенями. К тому же молодая страна Украина лишь недавно вышла на международную арену, и дипломатического опыта взять особо неоткуда, а читать книжки по этикету – некогда. Вот и «маемо тэ, що маемо», как говаривал тогдашний Премьер и будущий Президент.
Следующим слово берёт завотделом цен, профессор Шаповал, Федин прямой начальник. Самоуверенный, высоколобый, но неумный.
Шаповал выдаёт приевшийся набор клише о трудностях переходной экономики, о развале производства, росте цен. Виток за витком страну трясёт гиперинфляция, - говорит он. - Урожаи падают, надоями тоже не похвалишься. Сёла пустеют. Но задание правительства получено: дать цифры по аграрному разделу госбюджета.
Иноземцы дружно кивают, мол, нам понятны ваши проблемы. Смуглый доктор Янсон, внешне напоминающий Рууда Гуллита[3], особенно косичками, время от времени вставляет комментарии. Теперь уже кивает украинская сторона: мол, и мы понимаем, что вы знаете лучше нас, как надо, как должно быть, «но нельзя ли поконкретней?»
Переговоры ведутся на украинском и, конечно же, на международном английском. Да и не мудрено: ведь найти знатока датского в срочном порядке даже в Киеве не так-то просто. Переводит молоденькая Вика Медведева из отдела внешних связей. Её ценность как сотрудницы сводится к высокой должности отца в министерстве, что позволяет решать многие вопросы из числа нерешаемых.
Английский у Вики так себе, несмотря на диплом факультета международной экономики. Но уж как-нибудь толмачит – и на том спасибо. Переводить, может, поручили бы и Феде и сделал бы он это отменно, так опоздал ведь. А менять Вику в ходе переговоров нехорошо: вдруг папа дознается, что дочка оконфузилась. Неудобно, однако.
Постепенно стороны возвращаются к теме государственного бюджета Украины. Когда дело доходит до тех самых астрономических чисел, Маслаченко подаёт знак Бакланову. Фёдора дважды просить не надо. Он вальяжно дефилирует к переговорщикам и, демонстративно игнорируя коллег, обращается к гостям, да притом на датском(!):
- Godmorgen, kolleger! Hvordan har du det? (Доброе утро, коллеги! Как дела?)
Иноземцы в шоке. Датский-то у Феди приличный! Они даже обрадовались появлению долговязого красавца, знающего их родной язык. Наперебой сыплются ответы:
- Godmorgen, Sir! (Доброе утро, сир!)
- God, tak. (Хорошо, спасибо.)
- Vi er glade for at se dig (Рады вас видеть.)
И прочее.
От «сира» приятно в особенности. За два года независимости от «товарищей» отучиться успели, а к «господам» и «панам» ещё не привыкли.
Федя бегло называет цифры импорта и экспорта между двумя странами. Особенно обращает внимание на возможности развития датско-украинских торговых отношений.
Ещё в пятницу он прослышал о приезде учёных из страны сказок, вот и полистал нужные материалы. Он жаждал попасть на переговоры, хотя и не особо надеялся, что его туда пустят. Где уж там! Кто он им такой? Но на всякий случай подготовиться надо. Ведь гримасы Фортуны порой застают врасплох, а потом хоть локти кусай, хоть молоти себя пятками под зад – поезд ушёл.
Украинские коллеги недовольно зыркают на Фёдора. Тот как раз переходит к заготовке о кризисе в Европе, когда Шаповал теряет остатки терпения:
- Бакланов, харóш тебе любезничать! Шо ты там знаешь? Рассказывай! – голос выдаёт раздражение: ведь приходится восполнять пробелы в знаниях, обращаясь к мелюзге в лице младшего научного сотрудника.
- В каком смысле? – Фёдор уточняет вопрос, хоть и наверняка знает, что от него требуется.
- Ну, вот это… что там идёт после триллионов? – завотделом злится, догадываясь, что Фёдор тупо косит под непонятку.
- Ах, э-это? – опять же притворно удивляется Фёдор. - Ну, дальше следует тысяча триллионов, называется это – квадриллион, а тысяча квадриллионов – квинтиллион, - Фёдор, хоть и говорит по-украински, но глазами больше апеллирует к иностранным гостям. Никто из них тоже не знает этих заоблачных величин, и они вторично кряду поддаются восторгу от молодого… хе-хе… учёного, каким тот кажется.
- Хорошо, допустим, - перебивает завотделом, - а источник?
- Что – источник? – Фёдору и в самом деле вопрос не понятен.
- Ну, в смысле, откуда ты взял эти… как их… «квантильоны», - зав не запомнил с первого раза.
- А-а-а-а, исто-о-очник, - Федя цветёт лукавой улыбкой. – Откуда взял… Отсюда взял! – Тычет в лоб указательным пальцем левой руки (в правой – прижатый к боку блокнот).
- Тут и не такое хранится, - добавляет он с достоинством на грани высокомерия.
- Ладно, не валяй дурака! – Шаповал краснеет от гнева. - Я серьёзно спрашиваю, из какого источника эта информация?
- Ну-у, если серьёзно, - Фёдор изображает скуку, с прицмоком поглядывая на часы, будто время его нещадно поджимает, - если серьёзно, то пожалуйста: учебник арифметики для четвёртого класса.
Коллеги в шоке, гости в недоумении, а Вика сомневается, надо ли толмачить этот неуместный диалог.
- Слушай, Бакланов, ты уж, будь добр, не борзей, - в раздражении зав не замечает перехода на полублатной жаргон, едва сдерживаясь, чтобы не наорать на самоуверенного пижона.
Датчане ощущают неловкость, как подлинные интеллигенты, ставшие свидетелями неприглядной сцены. Даже без перевода они понимают, что молодой сотрудник подтрунивает над начальником, а последнему это не нравится.
Украинцы разражаются беспорядочным ропотом:
- Нет, ну что он себе позволяет?
- Наглец!
- Ни стыда, ни совести!
- Тоже ещё, клоун выискался!
Федя за словом в карман не лезет:
- Каков цирк, таковы и клоуны!
Сквозь нарастающий галдёж зычным баритоном пробивается зам директора по науке Виталий Титович Марсель-Краковяк:
- Молодой человек, а на что это вы намекаете?
- Да вроде ни на что не намекаю, - Фёдор сохраняет спокойствие, - напротив, прямым текстом называю лопату лопатой.
- Какую ещё лопату? – не понимает Марсель-Краковяк.
Снисходительно улыбаясь, Федя переходит на академический язык:
- Английская идиома «ту колл э спэйд э спэйд»[4] означает то же, что «называть вещи своими именами».
Гости оживляются: «Как! Он и английский знает!»
У зама по науке срывает крышу:
- Ну, так и говорил бы по-человечески, чтоб было понятно! – за окриком он не замечает перехода на «ты».
До сих пор молчавший директор примирительно резюмирует:
- Ладно, Федя, вздул ты этих профессоров и академиков. Надо же! Молодец! Квадрильоны – это лихо, конечно.
Саврук смеётся, продолжая:
- Спасибо, Федя, мы уж арифметику-то и подзабыли.
Профессура тупит взоры, когда директор подпускает сарказма, хоть и непонятно, против кого направленного: то ли Фёдора, то ли «высшего учёного состава»
- Давно ведь было дело, - голос директора становится строже, - и с лопатой хорошо получилось. Поняли, профессора?
Саврук окидывает коллег назидательным взглядом, наращивая силу голоса:
- Учите английский! Я же курсы организовал при институте! Кучу денег угрохал! Для вас же, бесплатно!
Осёкшись, директор возвращается к Бакланову. Его тон понижается до вежливого:
- Только сейчас, Федя, у нас тут серьёзная встреча, и я прошу тебя…
- Понял, Пётр Тимофеевич. Ухожу.
Он желает гостям успешных переговоров (succesfuld disussion), те дарят ему несколько сувениров – брелоки, значки, прочее – и Бакланов, не удостоив вниманием брошенную вслед реплику Шаповала «я с тобой ещё разберусь» - покидает кабинет.
В приёмной Федя подмигивает Ольге:
- Ну что, как сегодняшний вечерочек? Ась? Может, оттянемся? Я тут в Конче хату снял. - выдумывает Фёдор, намекая на элитный посёлок Конче-Заспа, что южнее столицы. - Можно целый месяц не вылазить. Хавла и пойла – хоть подтирайся. Там ещё видак и куча офигенных фильмов.
Пока он мелет этот вздор, Ольга молчит, лицо наливается багровым цветом, губы дрожат. Она не может простить Фёдору вчерашнюю групповуху[5] с его подачи. Ей стоит огромных усилий держать нервы в узде.
- Так поехали, а? – настаивает Фёдор. – Или тебя твой боксёр не отпустит? Ха-га-га-га-га! – он даже не смеётся, а тупо ржёт.
Ольга терпит его издевательства до «твой боксёр не отпустит», после чего разражается криком: «Пошёл во-о-он!!!» – и, закрыв лицо руками, впадает в конвульсивные рыдания.
- Да хорош тебе! – Фёдор не проникается состраданием. – Лучше скажи, куда вчера делась? Ты с кем ушла? И вообще, кто они такие?
- Тебе лучше знать! – сквозь слёзы истерично вопит Ольга. – Сам их привёл, уродов этих! И меня подставил! Скотина!
- Я не помню, откуда они взялись! - На этот раз Фёдор не врёт. – И сколько их было… Слушай, а ты ушла с двумя или с тремя?
Рыдающая Ольга не отвечает. Бакланов продолжает глумиться:
- Так мы в Кончу поедем или хочешь, как вчера? Хе-хе-хе. Только Жердинскому не говори. Скажи ему, что у тебя совещание. Ха-га-га-га-га!... – снова ржёт. – Групповое! Ха-га-га-га-га! – давится от хохота.
Из кабинета вылетает Ерышев. Все зовут его Толиком, хоть он и доктор наук. Смазливый хлыщ, в глазах прекрасной половины института – рыцарь, мечта любой женщины. Всегда корректный, обходительный и по-настоящему умный, без понтов и зазнайства… хоть и скользкий тип, как о нём поговаривают.
Бакланов завидует популярности Ерышева, его остроумию. А главное, Фёдору надо жутко напрягаться, чтобы попасть в этот пресловутый «центр внимания». Толик же там будто живёт. Стоит ему появиться в любой компании, всё внимание только ему, родимому.
Федю страшно давит жаба: «Как же это? Кто он, а кто я! Почему?» Сколько Фёдор ни пытается завладеть умами, никак не возьмёт в толк, что ума-то самому как раз и не хватает. Прибегал он и к грубым выходкам, скабрезностям, особенно в отношении женщин, за что тот же Ерышев частенько ставил его на место. Без кулаков, словами, а Фёдор стой себе да «обтекай». Уж лучше драка, думал он. Там бы Федя оказался на высоте. Первым же никогда не нападал, а словами отбиться – не хватало утончённости, юмора.
О том, что Ерышев ухлёстывает за Выдрой, не знает, пожалуй, только слепой. Ольга не может дать Анатолию надежду на взаимность. На её плечах – ответственность за друга и любимого, попавшего под каток обстоятельств.
Отношения с Баклановым Ольга скрывает, как только может. Влипла по-дурацки, а избавиться – никак.
[1] Буквально – to keep low profile (англ.)
[2] Кристиан III (1503-1559), король Дании с 1536 года и Норвегии с 1537 года.
[3] Голландский футболист восьмидесятых годов прошлого столетия.
[4] To call a spade a spade – англ., букв.: называть лопату лопатой.
[5] Групповуха – сленг: групповой секс.
***
Художник Катерина Киселёва, г.Киев
В книге читатели могут ознакомиться с новеллами, рассказами, поэмой и стихами автора. По желанию заинтересованного читателя к изданию будет приложен диск с песнями автора и видеоматериалами. Отзывы, предложения, пожелания можно присылать по адресу orele2@gmail.com
Приятного чтения, дорогие друзья!
ЕО
На конец июля 2014 г. тираж авторского сборника, к сожалению
(или к счастью=)), распродан. Однако роман можно приобрести в электронном варианте, в любом удобном для чтения формате,
например, в Интернет-магазине ЛитРес по сссылке:
http://www.litres.ru/evgeniy-orel/baklan-svekolnyy/
(или к счастью=)), распродан. Однако роман можно приобрести в электронном варианте, в любом удобном для чтения формате,
например, в Интернет-магазине ЛитРес по сссылке:
http://www.litres.ru/evgeniy-orel/baklan-svekolnyy/
© «Стихи и Проза России»
Рег.№ 0157043 от 20 февраля 2014 в 12:05
Рег.№ 0157043 от 20 февраля 2014 в 12:05
Другие произведения автора:
Рейтинг: +4Голосов: 4772 просмотра
| Нина Хмельницкая # 30 июля 2014 в 09:22 0 |
| Евгений Орел # 30 июля 2014 в 11:52 0 |
 Меню
Меню