Не скажу, когда точно началась эта странная болезнь, от
которой хотелось снова и снова чувствовать себя живым и испытывать щекочущее
ощущение внизу живота, но в середине десятого класса мы поняли, что если не
будем ходить на железную дорогу, то наше существование станет скучным и
невыносимым. Поэтому мы ложились под поезда, а в крови бурлил адреналин, и
дыхание останавливалось. В ушах звенело от проносившихся мимо вагонов. В
сердце, лишь при виде рельс, закрадывалось желание здесь и сейчас лечь на землю
и ждать, ждать, ждать, пока над тобой не прогремит металлическая громада,
свистя и гудя.
Наша компания отчаянных была открыта для всех, желающих
испытать на собственной шкуре, что такое быть на грани жизни и смерти, но если
кто-то вдруг пытался вернуться к спокойной и размеренной жизни безо всякого риска,
его провожали весьма неприятным образом. Каждый должен был понимать, что обратного
пути нет, и поэтому отступники получали, как мы считали, по заслугам.
Лидером тусовки был единогласно выбран Паша Романов. Он был
высоким, обаятельным и отважным именно в том смысле слова, какой мы тогда
понимали – был готов в любой момент сделать что-то опасное, несмотря на
обстоятельства, состояние и время. Говорят, излишний авторитет портит людей.
Что ж, возможно, в чем-то Пашка и проявлял особенное высокомерие, но мне было
все равно. Я делал то, что мне нравилось. Я рисковал, но продолжал существовать
в этом мире.
Среди нас были и девчонки, постоянно визжавшие и
переживавшие за своих бойфрендов, из-за которых, собственно, и приходили, но
тоже ложились на железку и ждали ближайшего транспорта. А потом делали вид, что
им было жутко страшно и кидались в объятия парней, хватая ртом воздух. Спустя
некоторое время они снова лезли под поезд, и все повторялось.
Все происходящее было секретом, о котором многие
догадывались, но не смели рассказать вслух, нашей тайной пятнадцати человек,
входивших в компанию рискующих. Это был своего рода протест против существующих
правил и моральных устоев.
На последнем году обучения к нам пришла новенькая, Василиса
Макаренко со смешным вздернутым носиком и аккуратными миндалевидными глазами.
Мы прозвали ее Васей. Почему-то, Паше сразу захотелось непременно принять ее в
наш храбрый коллектив, и он, наплевав на мои отговорки, повел девушку в пятницу
после уроков знакомиться с нами.
Дело в том, что Василиса сразу показалась мне немного
неподходящей для тех поступков, которые мы совершали. Конечно, в ее чертах
читались смелость и решимость, но все же я думал, что она отличается от нас.
Увидев в моих глазах эту самую неуверенность, Романов сказал:
- Да успокойся ты! Вон, смотри, как под поезд резво пошла!
А Василиса и правда твердо и уверенно шагала к рельсам,
последовав примеру остальных. Мне хотелось ее остановить, но я боялся гнева
друзей, а в особенности Пашки, поэтому просто стоял и с немым сожалением
наблюдал за тем, как новенькая ложилась на рельсы и зажимала уши руками,
готовясь испытать то самое чувство, ради которого мы здесь собрались.
Послышался гудок. Ревущая машина пронеслась мимо нас, а мой
взгляд метался в поисках хоть какого-то шевеления на железной дороге. Но ничего
не происходило. Мы с Пашей одновременно рванулись вперед, уже предчувствуя, что
через несколько секунд тут проедет следующая металлическая громада. Момент, и
вагоны промчались перед нашими лицами, а стоило им скрыться за горизонтом, как
глазам открылась виновница беспокойства, с розовыми щеками лежавшая на спине и
разглядывавшая небо.
- Как думаете, сколько еще поездов я смогу тут пролежать? –
с каким-то вдохновенным вздохом спросила она, все еще не двигаясь.
- Точно не знаю, - покачал головой Романов. – Но одно
понятно наверняка – ты оглохнешь. Давай, пойдем отсюда. Дай другим возможность
рисковать.
- Разве я им мешаю? Пускай ложатся, места много. А я еще
немножечко побуду здесь.
Когда мы расходились по домам, Василиса рассказала, что,
когда проезжает очередная машина, небо становится таким голубым-голубым, что
хочется рассматривать его до бесконечности. Тогда мы посмеялись над этим, но
шло время, и Вася все дольше и дольше оставалась на рельсах, уставившись вверх
и слушая звуки куда-то мчащихся машин.
В один из наших очередных походов на железную дорогу Пашка с
гордостью заявил мне, что теперь они с Василисой встречаются. И была у них
любовь. Теперь и Романов вечно лежал, пялясь в облака. Ребята первыми
попробовали лечь под поезда вместе, и, убедившись, что это вполне возможно, все
наши парочки одна за другой принялись проделывать тоже самое.
Я чувствовал, что с приходом Василисы все изменилось. Мы
больше не рисковали. Рельсы стали местом для свиданий и признаний в любви, но
никак не для поля сражения между жизнью и смертью. Все чаще, чтобы испытать
настоящий всплеск адреналина, я приходил на дорогу один. Я стал серьезно
задумываться над тем, чтобы найти новый способ чувствовать бурлящую во мне
жизнь. Хотелось вернуть все назад и заставить Пашку не приглашать Васю в нашу
компанию. Я не мог достучаться до остальных и напомнить им, что можно умереть,
если так относиться ко всему происходящему.
Но в марте, только сошел снег, произошел несчастный случай,
расставивший все на свои места и заставивший всех вспомнить, что лечь под поезд
– это серьезный риск, а не простое развлечение.
Надо сказать, что Василиса жила за железной дорогой, а
потому в школу ей приходилось идти по переходу. Она специально выходила из дома
раньше, чтобы успеть немного полежать на рельсах. Там было довольно много
народу, поэтому Макаренко отходила в сторону стрелки, которая переключала пути,
чтобы никто ее не видел. В тот день, она услышала окликнувший ее голос и
подняла голову, увидев бегущего к ней Романова с цветами в руках.
- Привет! – воскликнула она и стала подниматься, но тут ее
ногу случайно защемило той самой злосчастной стрелкой. Девушка кряхтела от боли
и пыталась выбраться, в то время, как вдалеке послышался звук подъезжающей
машины. Видимо, Макаренко посчитала, что у нее достаточно времени, чтобы
выбраться. Она забыла, что, услышав звук поезда, нужно думать только о
возможном риске, а значит прижаться к земле и не шевелиться. Через несчастных
десять секунд груда металла молниеносно налетела на Васю.
Букет так горячо любимых Василисой хризантем веником упал на
грязный и мокрый асфальт. Тело девушки унес уже начавший тормозить транспорт.
А потом была скорая, полиция, потерянное лицо нашего лидера,
грустные всхлипы одноклассниц, поникшие взгляды парней и вернувшееся чувство
опасности. На похоронах я впервые по-настоящему понял, что такого страшного
было в наших совместных походах. Как бы хорошо мы ни осознавали уровень риска,
наш мозг в критический момент не сработает, и мы будем так же, как и наша
одноклассница пытаться изменить все в последний момент. Я решил, что если ты
рискуешь, то ты готов к смерти. Ты выбрал отчаянный путь, а значит, ты самоубийца,
и тебе придется принять это.
С того момента мы больше не ложились под поезда. Безусловно,
кто-то пытался, но в последний момент трусил и отбегал в сторону. Вместо этого
мы прыгали с вышки в реку, забирались на гаражи, исследовали заброшки, но к
железной дороге не подходили. Пашки тогда с нами не было. Его вообще никто
нигде не видел. Поговаривали, что он не выдержал и совершил самоубийство, а
родители с горя переехали, оборвав все связи, но я в это не верил, потому что
не такой он был человек. Паша бы не расстался с жизнью просто так. Он бы погиб,
совершая что-то опасное, но совсем не думая о смерти.
Близился выпускной, мы всей толпой обсуждали свои
перспективы. Одни пойдут в медицинский, другие в филологический, кто-то даже на
МГУ замахнулся, но все обещали, что еще как минимум до двадцати лет будут
собираться вместе и делать все, чтобы как можно дольше чувствовать вкус к жизни.
Но в глубине души мы осознавали, что, скорее всего, день ухода из школы
ознаменуется и последним нашем собранием.
Через год, когда я с рюкзаком на плече выходил из
университета, мне на глаза попалась знакомая фигура рядом с черным BMW. Я не спеша подошел к
парню в сером потрепанном пальто и хлопнул его по спине, пока он доставал
сигарету, чтобы закурить. Тогда я решил, что теперь это его способ рисковать.
Мы зашли в кафе, и Романов рассказал, как его отца увезли в
больницу из-за инфаркта, и им с матерью пришлось поселиться неподалеку от него,
чтобы было удобнее ухаживать за больным. Потом я спросил его про Василису, и
он, склонив голову к груди и потушив сигарету, тихо произнес:
- Знаешь, а ведь дело было не в том, что небо какое-то
особенное, - тут он отхлебнул кофе и прочистил горло. – Она ощущала, что
продолжает жить, когда после черного днища поезда видела облака. Этот смысл
понимали только мы с ней, это нас связывало. Однажды, я поинтересовался, почему
ей вдруг вздумалось остаться тогда лежать на рельсах. А она ответила, что
хотела подняться, но случайно подняла глаза наверх… - Ромка надолго затих, но я
чувствовал, что он еще не закончил, поэтому ничего не говорил. Наконец,
собравшись с мыслями, он продолжил: - У нее был диабет. Первого типа.
Я нахмурился. Болезнь была мне известна.
– Она, в отличие от
нас, действительно боролась. Ее воля, жажда к существованию, стойкость – меня
все это поражало до глубины души. Ты даже представить не можешь, как жутко было
осознавать тот факт, что у нее и так было в два раза меньше времени, чем у
остальных, а случилось так, что его стало еще меньше. И мне отчаянно хочется
думать, что это не моя вина.
- Конечно, не твоя, - поспешил заверить его я. – Ты же ведь
не мог проконтролировать железнодорожную стрелку. Ты не обладаешь способностью
телекинеза.
- Но я отвлек ее. Я… Впрочем, ладно. Я больше не
безответственный школьник, и это главное, - допив кофе и бросив на стол
сторублевую купюру, он поднялся и пожал мне руку. – Приятно было встретить тебя
снова. Пока.
Попрощавшись с давним знакомым, я еще несколько минут сидел
на уютном диване и думал, что вся моя жизнь в старших классах, наверное, была
ошибкой. А еще я думал, что в смерти Васи были виноваты мы все. Это ведь мы
научили ее ложиться под поезда.

 Меню
Меню




 . Благодарю.
. Благодарю.

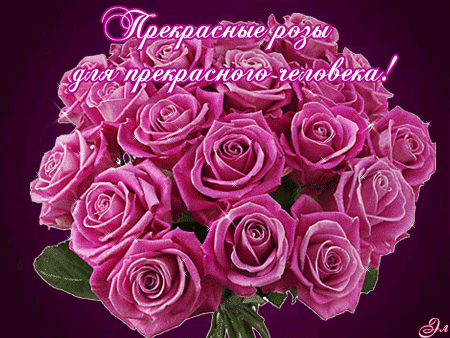
 и за теплые слова.
и за теплые слова.





